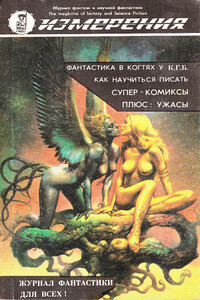Буковски. Меньше, чем ничто | страница 78
Буковски с большим удовольствием проезжается по коллегам, всякий раз обвиняя их в неподлинности. Приведем ряд красноречивых примеров из интервью: «Поэт, как правило, это недочеловек, маменькин сынок, не подлинная он личность, и вовсе он не годится для того, чтобы вести настоящих людей в делах крови или мужества»[59]; «Поэзия мне отвратительнее любой другой формы искусства. Ее ценят чересчур высоко и слишком почитают за какую-то святость»[60]; «Ну, по-моему, писатели по большей части не очень приятные люди. Я бы предпочел поговорить с гаражным механиком, который на обед жует бутерброды с колбасой. Вообще-то, я бы у него и научился большему.
Он человечнее. А писатели – скверная публика. Я стараюсь держаться от них подальше»[61]; «Мне не нравится, как они носят одежду, мне не нравится их обувь и не нравятся их книги. Мне их голоса не нравятся. Мне не нравится, как они блюют после третьего стакана. Писатели – отвратные существа. Сантехники лучше, торговцы подержанными машинами лучше – они человечнее писателей. Писатели становятся людьми, лишь когда сидят за машинкой; тогда они хороши или даже исключительны. Оторвите их от машинки – и они оказываются полными мудилами. (С нажимом) Я сам писатель»[62]. Профессиональная писательская публика для Буковски – публика жалкая, ибо за рюшечками из литературных приемов у них нет главного: подлинности, живой писательской искренности. Зато-де она есть у Буковски, и это делает его сильнее любого профессионального писателя.
Что, кстати, не означает, что сам он не должен уметь писать. Напротив, его задача двойная: и подлинность, и профессионализм. Сложность ее выполнения – тот символический капитал, который и ставит Буковски выше других – тех, которые, может, и обладают профессионализмом, но лишены подлинности, реального опыта. Во всяком случае, критики – несмотря на его бравады против профессиональной литературы – угадывали в Буковски хорошего стилиста. Так, послушаем одного из них, Джона Уильяма Коррингтона: «.. критики в конце нашего века запросто могут заявить, что работы Чарльза Буковски стали водоразделом американской поэзии XX века – между паундо-элиото-оденовским периодом и новым временем, когда обрел силу живой человеческий голос. Буковски заменил формальную, часто напыщенную дикцию паундо-элиото-оденовских дней языком, лишенным манерности, литературных приемов и изысканности, захвативших наше академическое стихосложение и набивших университеты и коммерческие ежеквартальники подражаниями подражаниям Паунду и иже с ним. Что якобы имел в виду Вордсворт, что якобы свершил Уильям Карлос Уильямс, что на самом деле сделал Рембо во французском, то Буковски сделал для английского языка»