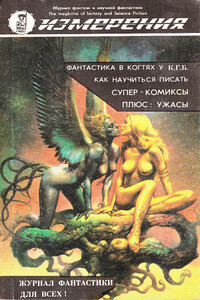Буковски. Меньше, чем ничто | страница 72
Понятие гения как некий предел романтического опыта означает стремительное погружение творца в солипсизм. Гений находит законы в себе, но внешний мир как-то обязан согласовываться с этими законами. Вопрос: откуда они, согласованные с внешней действительностью, взялись внутри гения? Кто их туда положил? И не верно ли предположить, что гений, разросшийся до пределов Вселенной, не более чем пустое место, в котором – по некоторой случайности – должны раскрываться общезначимые истины?..
И правда, мощный романтический пафос скрывает в себе куда больше проблем, чем он способен распутать. Гегель хорошо это понимал, снимая индивидуальное во всеобщем. Какое еще содержание можно присвоить индивидуальности, если оно не будет в том числе всеобщим? Руки, ноги и голова есть у всех людей. Романтик пользуется языком, который не он создает, язык этот общий для всех. Формы романтического выражения должны быть видны и понятны окружающим, значит, должны содержать в себе потенцию всеобщего. Поразительно, но от крайнего частного до крайнего общего один шаг. Утверждая, что истинен лишь индивид, а следом – что истинно только всеобщее, мы будто бы говорим об одном и том же.
Это скандал, и громы его слышны до сих пор. Порою мыслителей заносит в самые крайности, и они возобновляют бунт частного или всеобщего. Неистовый Штирнер бьет себя в грудь и заявляет, что нет ничего, кроме его солипсистского «Я», его юношеский приятель Маркс парирует тем, что всё содержание «Я» – это продукт общественных, то есть попросту общих, отношений. Каждый предельно озлоблен и убежден в своей правоте. На чью сторону встать? Или, может быть, лучше остаться на месте и посмотреть, в каких формах идет, до сих пор продолжается этот спор? Пожалуй, полезнее сохранить голову в холоде и занять здесь позицию наблюдателя.
В этой, конечно, эскизной исторической перспективе я хочу рассмотреть специфический опыт авторской субъективности, открывающей в литературе возможности для сотворения своей собственной жизни. Возможности эти выходят на первый план только тогда, когда будет проделана романтическая по сути своей операция по присвоению художником собственного произведения – и в нем уже целого мира.
Для этого мне потребуется провести дополнительное различение между субъективацией, о которой мы только что говорили, указывая на различные места и функции художника в его историческом контексте, и тем, что я назову субъектификацией.