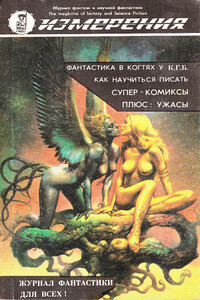Буковски. Меньше, чем ничто | страница 68
Ранним, но не первым, ведь еще до Петрарки и до всего гуманистического движения мы обнаруживаем другой, еще более важный и видный пример нового типа ренессансной субъективации – речь, разумеется, о великом Данте. Его фигуру в нашем кратком аутомифопоэтическом экскурсе можно считать образцовой.
С гениальной бесцеремонностью разрывая круг литературных условностей Средневековья, Данте выписывает самого себя и сам для себя служит центром своего поэтического приключения. В соответствии с этим можно сказать, что Данте – это поэт, предметом поэтического творчества которого всю жизнь был сам… Данте. И эту возвратность его поэзии необходимо брать сразу в двух дополнительных смыслах: во-первых, как живого поэта, выписывающего самого себя как персонажа своей поэзии, и, во-вторых, как персонажа, который возвратно преображает (и, таким образом, попросту создает) в его земной биографии живого человека-поэта. Управляя своим письмом, поэт наделяет письмо силой управлять своей жизнью.
Во всяком случае мы узнаем о Данте именно то, что он сам о себе написал и каким он себя вывел. Мы даже готовы поверить, что – да, он побывал с Вергилием в аду и вознесся на небо в сопровождении Беатриче, столь убедительна аутопоэтика его «Божественной комедии». Как ей не поверить?.. И даже изгнание Данте, его политические злоключения прежде всего прочитываются через воображаемое его сочинений. Аутопоэтический приоритет Данте раскрывается в том дерзостном жесте, которым он вводит себя самого, то есть автора, на страницы произведения и показывает, кто – и как – сочиняет не только все эти слова, но и самое жизнь. В этом отношении его «Vita Nuova» читается как манифест грядущего ренессансного антропоцентризма: отныне никаких более божественных инспираций, только частное мастерство отдельного гения, претендующее, впрочем, на поистине космологический масштаб.
Без этого мы не поймем романтический пафос, которого, в высшем его выражении, остается ждать еще как минимум четыреста лет, и не случайно Гарольд Блум сближает гений Данте с великим нарциссом Гёте[55] – оба они писали только о себе, но эти писания в конечном итоге принимали всеобщий размах и значение.
Но если вернуться к нашему Ренессансу, то здесь далеко не все, если на время забыть о том же Петрарке, имели смелость последовать за поэтическим индивидуализмом Данте. Так, уже Боккаччо делает шаг назад и устанавливает ощутимую дистанцию между самим собой как частным лицом и своими произведениями. То же мы видим у Чосера, и не только. Не многие были готовы осуществить дантовский манифест