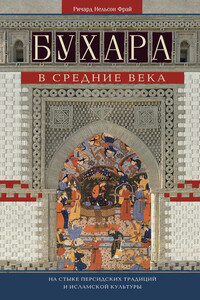Буковски. Меньше, чем ничто | страница 61
Но во всем этом нет никакой трагедии, напротив, он делает это с улыбкой. Он освобождается от литературы, которая в его случае всегда выступала последним якорем, привязывающим его к миру и к обществу. В романе вроде «Чтива» литература официально накладывает на себя руки, она поет гимн своему смехотворному умалению до полного исчезновения в пустоте ничего не значащих слов и заезженных оборотов.
Конечно, Чинаски продолжает жить посредством романов, рассказов, стихов, сохраненных в архиве литературы для будущих поколений. Но Буковски со всем этим не по пути. Он вычеркивает себя из текста, он ставит на то, что смерть, этот великий избавитель, означает действительный, настоящий и полный конец.
Никакой больше литературы, никакого больше Чинаски, никакого больше Буковски. После него заговорит только миф.
Всё прочее – чтиво.
Часть вторая
Мифология, или Диоген из Лос-Анджелеса
«as the
spirit
wanes
the form
appears»[52].
Чарльз Буковски
Мы познакомились с жизнью Генри Чарльза Буковски, которая, выраженная в художественном образе, выписанная и сочиненная, послужит нам основанием – не единственным, но одним из – для вынесения ряда суждений о целостном литературном проекте, о большом произведении под условным названием «Буковски».
Жизнь эта, данная в образе, сочиненная и рассказанная, по сути мифологична. Под мифологией будем здесь понимать целостность образа, выстроенного в качестве связной истории (нарратива), разворачиваемого в художественном повествовании и преподнесенном публике как «то, что было на самом деле», и будем, разумеется, отличать эту объект-мифологию от мифо-логии как дисциплины, собственно изучающей и разбирающей миф-объект (на это различение указывал Ролан Барт, но я для удобства не буду к нему обращаться в дальнейшем; договоримся сразу, что далее под мифологией будет пониматься исключительно миф как объект, а мифология как исследовательская дисциплина во всем нашем тексте фигурирует лишь единожды – в указанном выше названии этой, второй, его части).
В этом смысле частные и громкие декларации Буковски о нищете литературы перед лицом настоящей жизни стоит рассматривать как часть этой же мифопоэтической (то есть мифосозидательной) стратегии: жизнь может быть сколько угодно важнее и выше письма, но лишь при условии, что она заранее и изначально понята как возможный сюжет для этого самого письма – в обратном случае титаническое упорство, с которым Буковски десятилетиями предавался этой ничтожной и совершенно, как казалось, бесперспективной практике, кажется необъяснимым. Литература во всем уступает жизни, за исключением главного: жизнь понимается как литературный проект. А это, согласитесь, меняет всё дело.