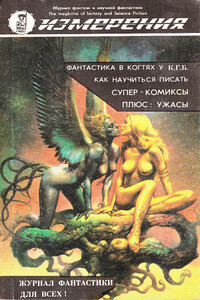Буковски. Меньше, чем ничто | страница 100
Трус или смельчак: есть ли разница, если внутри все одинаковые?.. Обнажение животного начала, редукция к нулевой степени человеческого – это для Бардамю скорее веселая наука, чем подлинная трагедия, скорее способ познания и модель поведения, нежели травматический путь. Знание, открывающее себя в пограничной ситуации войны, одновременно служит практическим руководством к действию: если уже Френсис Бэкон догадывался, что знание есть власть, то теперь Бардамю окончательно убеждается, что знание – это воля к власти, воля к могуществу, путь к выживанию.
Структура селиновского переживания сложнее именно потому, что к непроходимой дихотомии воли к могуществу и экзистенциальной трагедии добавляется опосредующее (и, следовательно, делающее дихотомию проходимой) звено – цинический юмор. С точки зрения Ницше здесь нет никакой новости, но ведь Хемингуэй и большинство литераторов потерянного поколения это звено упустили. Возможно, именно это восстановление ницшеанской истины и вызвало тот нешуточный резонанс, с которым был встречен дебютный роман Селина. Ему удалось довести всю картину до правильной полноты: там, где животное и человеческое сцепляются в неразрешимом противоречии, всегда есть такая позиция, которая может это противоречие разрешить. Это позиция циника, а с циником мы уже немного знакомы благодаря Слотердайку.
Впрочем, сам Бардамю не всегда удерживается на этой позиции с одинаковой легкостью. Это далеко не такой упрощенный персонаж, как может показаться на первый взгляд. Он то и дело теряет циническую дистанцию, обнаруживает в себе сострадание, чаще всего, правда, к животным и детям: «Раз уж надо кого-то любить, лучше любить детей: с ними хоть меньше риску, чем со взрослыми. По крайней мере, можно извинить свою слабость надеждой на то, что они вырастут не такими шкурами, как мы. Еще ведь ничего не известно»[93].
Он завидует тем редким персонажам, которые всё еще могут любить и заботиться о другом – таковы сержант Альсид, проститутка Молли: «Стыдливый Альсид! Сколько ему приходилось экономить на своем убогом жалованье, нищенских наградных, на крошечной тайной торговле в Топо – и так месяцами, годами! Я не знал, что ответить: я не сведущ в таких материях, но сердцем он стоял настолько выше меня, что я залился краской. В сравнении с Альсидом я был просто-напросто беспомощным, толстокожим и тщеславным хамом. Не стоило себе врать: дело обстояло именно так»