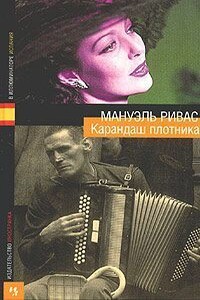С четверга до четверга | страница 10
Но страх пришел позже: когда засыпали убитых в мелком ровике, и Алихан боялся бросать землю с лопаты на раскрытые глаза Петьки Рассудова, которого тоже убило в этой балке, но за день до Рыжего. Лицо у Петьки было сморщенное, непохожее ни на что, а серые глаза смотрели стыло, упорно. Не страх, а тошнота, тягость, которая, когда они снова тронулись на запад, усилилась в Алихане, но притаилась. О тошноте думать было нельзя.
Наступила весна. В Ровно зацвели фруктовые сады, за искристым маревом усталыми литаврами вздыхала далекая канонада, каждый женский голос трогал, как начало сердцебиения, у кирпичной ограды пробивалась тонкая травка, небо нагревало пуговицы, пряжку, ленивые мысли в голове.
Это был второй эшелон, тыл.
По городу вразвалку ходили патрули, на лавочке грелись ординарцы, вечером в проулке курили, смеялись солдаты из роты связи, провожали глазами проходивших полек.
— Али, жену ищешь? — Рябой Маслов нахлобучил ему пилотку на нос. Гомзяков затягивался, щурился от дыма, дырочки зрачков все подмечали. Хозяйка — старая панна — строго смотрела на них из окна. Она ничего не боялась — у нее стоял начштаба.
В теплых сумерках размывались лица, перебирал лады близкий баян, дышало из палисадника мокрым перегноем.
— Салям алейкум! — сказали негромко рядом.
— Алейкум салям! — испуганно ответил Алихан. Старый солдат стоял сбоку, приглядывался в темноте. От седоватой щетины он казался еще смуглее, из-под зимней шапки тускло, не мигая, смотрели черные глаза.
— Откуда, земляк? Из какого роду? — спросил он строго, на родном языке.
— Межгюль, Хивский район, Алихан Хартумов Бахмуда сын…
— Абдулла Магомедов я, — сказал старик, вглядываясь через сумрак в солдат на скамеечке. — Из Унцукуля. Пополнение. Наши еще есть со мной: Шабан Алиев, Сеид Ахмедов и еще двое.
Он говорил вполголоса, неподвижный, горбоносый; в бровях не расходилась складка-рубец.
Баян пока играл что-то задумчивое, пряталась на время бездумная удаль, а от старика тянуло дымком турецкого самосада, сыромятной кожей уздечки, с ним вернулись откуда-то сухие лозы, крошки сыра на доске, глинобитная сакля, огромные глаза матери. Ее черный платок и черное платье совсем сливаются с темнотой. Живут только глаза. Старик горец умолк, точно и он это увидел: и ее, и медный таз с инжиром на стене из плитняка, за которой вверху — перевал, шиферные скалы с мазками снежников. Сумерки над перевалом были зеленоваты, незыблемы.
Алихан очнулся, тряхнул головой. Он не смел отойти от старика к ребятам, которые столпились вокруг баяниста. Баян оборвал жалобу, помедлил и рванул частушку. Зашаркали, защелкали подметки, кто-то подвизгивал под бабу.