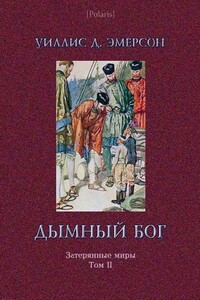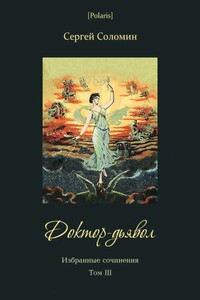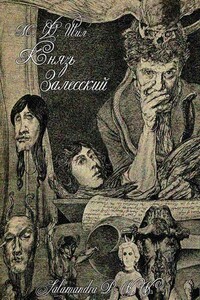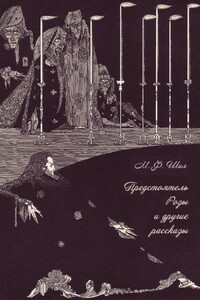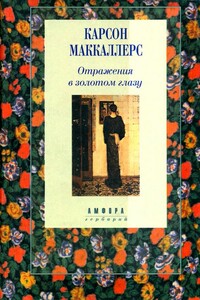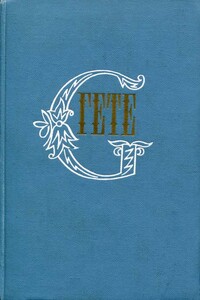Кселуча и другие фантазии | страница 22
В одно утро на четвертой неделе, когда она была не в духе, мы прогуливались по парку; в тот раз сэр Филипп, в виде редкого исключения, повстречался нам вне дома. Мы наткнулись на него у обезьяньих вольеров: он стоял, прижавшись лицом к проволочной сетке, и разглядывал гиббона — так пристально, что мы успели подойти совсем близко, а он все не замечал нас. Внезапно увидев нас рядом, он замер в напряженной позе, но тотчас, в своей сдержанной манере, повел себя очень приветливо и несколько минут беседовал со мной о обезьянах и их повадках. Обезьяны носили имена египетских царей: шимпанзе звали Пепи II и Хети, а гиббона Сети I[48]; в сторону гиббона сэр Филипп покачал пальцем, произнося с игривой внушительностью: «Этот парень! этот парень!» — но я не поняла, что он имел в виду.
Вдруг, посреди разговора, он — с некоторой неловкостью отводя глаза — предложил устроить пикник, второй завтрак на свежем воздухе, на что Эсме и я с готовностью согласились. Однако минуты через три он начал тихо бормотать: «Я должен вернуться к работе» — и ушел, к моему изумлению!
После этого он снова исчез из виду на три недели. Мы с Эсме, тем временем, привыкли проводить часы учебы в главном зале, сидя на кушетке в галерее верхнего яруса — галерее, откуда в минувшие века видны были пирующие за столами внизу вассалы; и те дни моей жизни, что я провела в этом месте, окрашены для меня теперь немалой странностью, словно память о несбыточной Утопии. Главный зал был довольно ординарным и пустым — простой потолок, простые белые стены, обшитые до половины высоты дубовыми панелями; вот только освещался он четырнадцатью огромными витражными окнами и, когда солнце светило сквозь них, старый зал превращался в царство грез… Но он ушел от меня в прошлое, как сон, и я больше его не увижу.
На тринадцатой неделе моего пребывания в Харгене — дело было в четверг, после обеда — я получила от сэра Филиппа Листера необычное послание: он писал, что поранил большой палец, и спрашивал, не соглашусь ли я «любезно вести записи под его диктовку». Но что, спрашивала я себя, будет с Эсме? Я не хотела расставаться с девочкой! И все-таки я не могла отказать и потому вошла в тот же день в священный чертог. Он, с рукой на перевязи, мгновенно вскочил с потоком извинений, осыпая меня тысячами пылких и одновременно застенчивых благодарностей; но наконец робость взяла верх, и он внезапно замолчал, оборвав себя. Затем я устроилась за старым аббатским столом, он же на старинном фермерском диване с высокой деревянной спинкой; закрыв глаза, он начал негромко диктовать — что-то о Хуфу, Хефрене