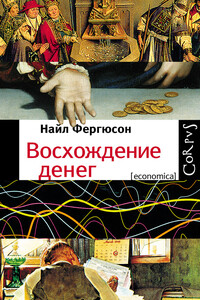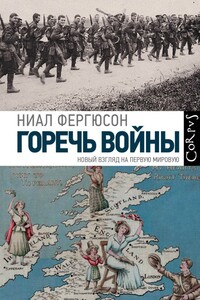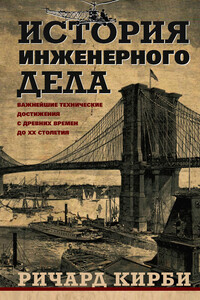Виртуальная история: альтернативы и предположения | страница 31
Маркс позаимствовал у Гегеля не только диалектику; он также усвоил его презрение к свободе воли: “Люди творят свою историю, но не знают, что они ее творят”. “В исторической борьбе необходимо отличать… лозунги и пристрастия сторон от их истинных… интересов, их представление о себе от реальности”. “В процессе общественного производства средств производства люди вступают в определенные и необходимые отношения, которые не зависят от их воли”. “Свободны ли люди выбирать для себя ту или иную форму общества? Ни в коем случае”. Однако за Гегелем виднеется и тень Кальвина, а также других пророков. Поскольку в доктрине Маркса определенные индивиды – представители обездоленного и отчужденного пролетариата – сформировали новый класс избранных, которому суждено было свергнуть капитализм и унаследовать мир. В виде пророчества поистине библейской важности это было предсказано в “Капитале”:
Монополия капитала становится оковами того способа производства, который появился и расцвел вместе с ней и под ней. Централизация средств производства и обобществление труда наконец достигают той точки, где они становятся несовместимы со своей капиталистической оболочкой. Эта оболочка разрывается. Колокол звонит по капиталистической частной собственности. Экспроприаторов экспроприируют[65].
Нужно признать, что Маркс и Энгельс не всегда были столь категоричны, как большинство их последующих толкователей. Поскольку их более пессимистичные политические предсказания не воплощались в жизнь, им действительно приходилось время от времени смягчать детерминизм своих самых известных трудов. Сам Маркс признавал, что “«ускорение и замедление» «общей тенденции развития» может зависеть от «случайностей», в число которых входит и «случайный» характер… индивидов”[66]. Энгельсу тоже пришлось признать, что “история часто движется скачками и зигзагами”, что может неудачным образом приводить к возникновению “значительных препятствий в ходе рассуждений”[67]. В своей последующей корреспонденции он пытался (как оказалось, тщетно) обосновать идею о простой причинно-следственной связи между экономическим “базисом” и социальной “надстройкой”.
Именно эта проблема занимала русского марксиста Георгия Плеханова. В своем эссе “К вопросу о роли личности в истории” он приводит гораздо больше аргументов против марксистского социально-экономического детерминизма, чем в его поддержку, хотя и пытается выплыть из моря более или менее убедительных примеров, в которых решающую роль сыграла именно личность. Если бы Людовик XV был человеком другого склада, признает Плеханов, территория Франции могла бы быть расширена (после войны за австрийское наследство), а экономическое и политическое развитие страны в результате могло пойти по другому пути. Если бы мадам Помпадур не оказывала столь сильного влияния на Людовика, возможно, некомпетентного Субиза не оставили бы главнокомандующим и война на море сложилась бы удачнее. Если бы в августе 1761 г. – всего за несколько месяцев до смерти императрицы Елизаветы Петровны – генерал Бутурлин атаковал Фридриха Великого в Штригау, возможно, он вынудил бы его спасаться бегством. А что, если бы Мирабо выжил или если бы Робеспьер случайно погиб? Что, если бы Бонапарт погиб в одной из своих ранних кампаний? Попытка Плеханова впихнуть все эти случайности и гипотезы обратно в смирительную рубашку марксистского детерминизма, мягко говоря, трещит по швам: