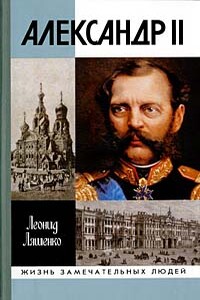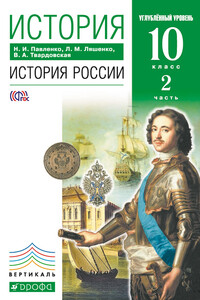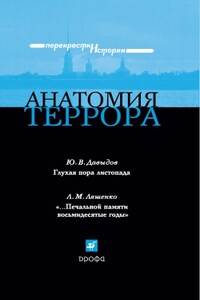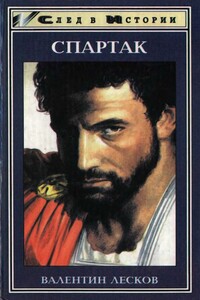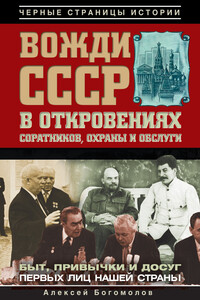Александр I. Самодержавный республиканец | страница 15
Воспитывая во внуках эти добродетели, Екатерина II построила для них между Павловском и Царским Селом дачу, на которой, как уже говорилось, мальчики пробовали свои силы в сельском хозяйстве. Интересно и показательно, что рядом с домом великого князя в знак его будущей и само собой разумеющейся любви к народу была поставлена крестьянская избушка. А за ней возвышалась постройка, получившая название Храм розы без шипов (выше уже говорилось, что это означало на языке конца XVIII века). Плафон купола храма был украшен изображением Петра I, милостиво взиравшего на благоденствующую при его потомках Россию. Он опирался на щит, на котором было не изображение святого и даже не герб Романовых, а портрет Екатерины II (этакой русской Афины Паллады или Минервы). Надо уметь правильно расшифровывать аллегории, а царственным детям — особенно. Но не каждому из них это дано в полной мере. Когда однажды бабушка спросила внуков, как бы они стали править государством, случись им взойти на престол, прямодушный Константин сказал, что взял бы за образец царствование Петра Великого, за что удостоился сдержанной похвалы. Александр же благоразумно ответил, что стал бы во всем подражать нынешней государыне, чем необычайно ее порадовал.
Державная бабушка осталась довольна ответом старшего внука, но вряд ли всерьез задумалась над его словами. Между тем дело здесь не в желании Александра польстить императрице, не в его лицемерии и двоедушии, в чем героя нашей книги любили упрекать очевидцы событий рубежа XVIII–XIX веков (а многие историки делают это до сих пор). Ему действительно была близка идеология «Наказа», данного Екатериной депутатам Уложенной комиссии; он разделял намерение бабки поочередно освободить российские сословия, сделав их членов не только подданными, но и сознательными гражданами. При этом внешний блеск двора, нарочитая галантность, прикрывавшая распущенность нравов, разгул интриг, раболепие и произвол придворных с ранних лет начали раздражать великого князя.
Что касается отношения Александра к придворной жизни, то он вполне мог бы подписаться под словами сенатора Ивана Владимировича Лопухина: «Картина весьма известна и всегда та же, только с некоторою переменою в тенях. Корысть — идеал и душа всех ее действий. Угодничество и притворство составляют в ней (жизни при дворе. — Л. Л.) весь разум, а острое словцо и толчок ближнему — верх его»>{22}. В таких условиях о чувствах долга, собственного достоинства, независимости в мыслях и действиях можно было только рассуждать, на деле они проявлялись крайне редко. Подданные оставались подданными, и чем ближе к трону они находились, тем «подданнее» себя вели. Деспотизм бабки в отношениях с окружающими даже Александр ощущал неоднократно. Возьмем хотя бы историю с его женитьбой. Понятно, что матримониальные дела великих князей — проблема государственная, но ведь и самые сложные государственные проблемы можно решать по-разному, тем более когда речь идет о столь тонких материях.