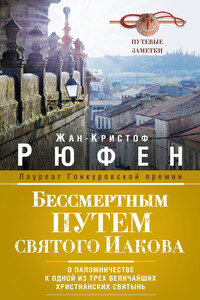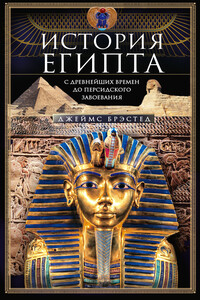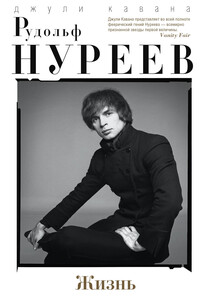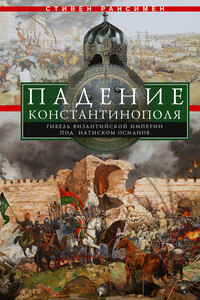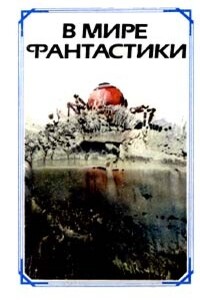Они давно это поняли, но мы до сих пор не могли еще понять, что <…>
или мы будем господами у них, или они будут господами у нас»
[384]. Это сочинение немыслимо было опубликовать легально, и оно распространялось в списках в Москве и Петербурге, осенью 1848 г., вернувшись в Москву, Самарин устраивал его публичное чтение в салонах. Ответным ходом «немецкой партии» стал арест славянофила и заключение его в Петропавловской крепости сроком на две недели. Так могущественно оказалось немецкое лобби в Петербурге, что министр внутренних дел В.А. Перовский, министр государственных имуществ П.Д. Киселев и шеф жандармов А.Ф. Орлов, поддерживавшие Самарина, не смогли этого предотвратить. Правда, благодаря им и своему высокому аристократическому статусу Юрий Федорович (чьим восприемником от купели был сам Александр I) отделался еще сравнительно легко. Замечательно точно сформулировал суть его дела в личной беседе с ним государь Николай Павлович: «Вы прямо метили в правительство. Вы хотели сказать, что со времени императора Петра I и до меня мы все окружены немцами и потому сами немцы. <…> Вы поднимали общественное мнение против правительства; это готовилось повторение 14 декабря. <…>
Ваша книга ведет к худшему, чем 14 декабря, так как она стремится подорвать доверие к правительству и связь его с народом, обвиняя правительство в том, что оно национальные интересы русского народа приносит в жертву немцам»
[385]. «Незабвенный» прекрасно понимал, что его неограниченная власть и немецкие привилегии «скованы одной цепью» и удар по последним неизбежно отзовется на первой.
Во время правления Александра II ситуация в Остзейском крае, казалось бы, должна была измениться. «Великие реформы» подразумевали радикальную модернизацию империи, которая по идее не могла не коснуться такого заповедника Средневековья, как Прибалтийские губернии: положение остзейского дворянства было уникальным, «нигде в Европе <…> дворянство не обладало столь многочисленными сословными привилегиями, как в Прибалтике. Уже в XIX в. оно представляло собой служилое дворянство, как, например, прусское, не имевшее никаких особых сословных привилегий; в Австрии и Швеции оно образовывало общественную страту без особых сословных или, тем более, государственных функций»[386]. Тем более среди реформаторов было немало русских националистов, жаждавших потеснить привилегированных «наемников». К «антиостзейской партии» принадлежали военный министр Д.А. Милютин, министр госимуществ А.А. Зеленой, великий князь Константин Николаевич. Но «проостзейская партия» в верхах была также весьма влиятельна: в ее состав входили министры внутренних дел П.А. Валуев и А.Е. Тимашев, шеф жандармов П.А. Шувалов, министр финансов М.Х. Рейтерн и др.