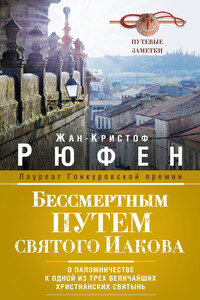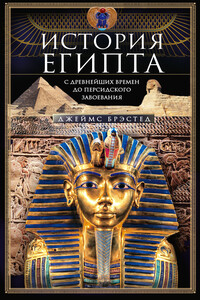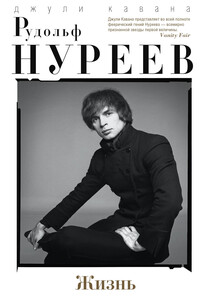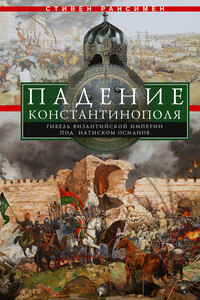Русская нация. Национализм и его враги | страница 74
Немцы в изображении Вигеля – преимущественно серые посредственности, добивающиеся чинов исключительно с помощью этнической солидарности и пристрастного покровительства верховной власти. Скажем, именно так он характеризует министра иностранных дел в 1806–1807 гг. барона А.Я. Будберга: «…судя по догадкам, можно себе вообразить его немцем, довольно образованным для того времени, где нужно искательным, терпеливым и молчаливым, и следственно, по наружности глубокомысленным. <…> Попробовал бы русский быть столь ничтожным, как Андрей Яковлевич Будберг; ему много бы удалось быть членом Московского Английского клуба»[324]. Немцы ненавидят русских «как возмужалых и непокорных учеников, которых надеялись они вечно держать в опеке»[325]. Вигель пугает переходом «холодной» русско-немецкой войны в «горячую»: «Веселая беспечность русская мстит покамест немцам одними эпиграммами, точно так, как праотцы наши злились тайком и подтрунивали над татарами. Если ничто не переменится, то рано или поздно должно ожидать ужасных последствий для них или для нас…»[326]
Для Ю. Самарина отличительные черты остзейских немцев – «чувство племенной спеси, ничем не оправданная хвастливость и смешное презрение к России и ко всему русскому»[327]. Причем, бьет тревогу славянофил, «в этих понятиях воспитываются те, которые занимают в наших имениях должности управляющих, а в наших домах – наставников, что тот господин, который пачкал свою книгу остроумными афоризмами о характере русских, завтра, может быть, купит имение в одной из наших губерний и будет иметь крепостных людей; что он уже теперь занимает по службе важное место и сделается когда-нибудь губернатором; что за ним потянется целый рой мелких чиновников, его приятелей и клиентов, одного с ним образа мыслей; наконец, что в зависимости от этих людей живут наши соотечественники, поселившиеся в остзейских городах»[328]. Он, как и Вигель, сравнивает русско-немецкий конфликт с коллизией «учитель ненавидит превзошедшего его ученика»: «Ученик <…> превзошел своего учителя в том, чему мог от него научиться. Стыдно учителю, который не умел понять и оценить ученика и вышел из дома, в котором он был принят как родной, с чувствами неблагодарного наемника