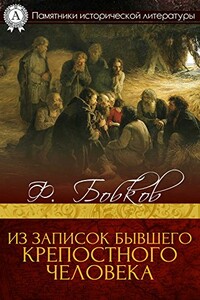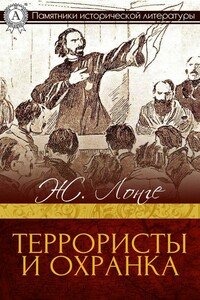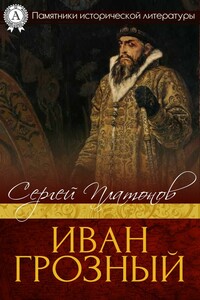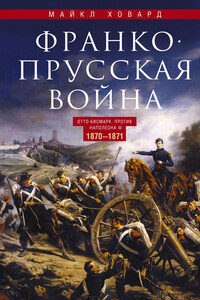Полный курс лекций по русской истории. Часть 2 | страница 63
В то самое время, как инокиня Марфа, признавая подлинность самозванца, способствовала его окончательному торжеству и утверждала его на престоле, Василий Шуйский ему уже изменил. Этот человек не стеснялся менять свои показания в деле Дмитрия: в 1591 г. он установил факт самоубийства Дмитрия и невиновность Бориса; после смерти Годунова перед народом обвинял его в убийстве, признал самозванца подлинным Дмитрием и этим вызвал свержение Годуновых. Но едва Лжедмитрий был признан Москвой, как Шуйский начал против него интригу, объявляя его самозванцем. Интрига была вовремя открыта новым царем, и он отдал Шуйского с братьями на суд выборным людям, земскому собору. На соборе, вероятно, составленном из одних москвичей, никто «не пособствовал» Шуйским, как выражается летопись, но «все на них кричали» — и духовенство, и «бояре, и простые люди». Шуйские были осуждены и отправлены в ссылку, но очень скоро прощены Лжедмитрием. Это прощение в таком щекотливом для самозванца деле, как вопрос об его подлинности, Равно и то обстоятельство, что такое дело было отдано на суд народу, ясно показывает, что самозванец верил, что он «прирожденный», истинный царевич; иначе он не рискнул бы поставить такой вопрос на рассмотрение народа, знавшего и уважавшего Шуйских за их постоянную близость к московским царям.
Москвичи мало-помалу знакомились с личностью нового царя. Характер и поведение царя Дмитрия производили различное впечатление — перед москвичами, по воззрениям того времени, был человек образованный, но невоспитанный, или воспитанный, да не по московскому складу. Он не умел держать себя сообразно своему царскому сану, не признавал необходимости того этикета, «чина», какой окружал московских царей; любил молодечествовать, не спал после обеда, а вместо этого запросто бродил по Москве. Не умел он держать себя и по православному обычаю, не посещал храмов, любил одеваться по-польски, по-польски же одевал свою стражу, водился с поляками и очень их жаловал; от него пахло ненавистным Москве латинством и Польшей.
Но и с польской точки зрения это был невоспитанный человек. Он был необразован, плохо владел польским языком, еще плоше — латинским, писал «in perator» вместо «imperator». Такую особу, какой была Марина Мнишек, личными достоинствами он, конечно, прельстить не мог. Он был очень некрасив: разной длины руки, большая бородавка на лице, некрасивый большой нос, волосы торчком, несимпатичное выражение лица, лишенная талии неизящная фигура — вот какова была его внешность. Брошенный судьбой в Польшу, умный и переимчивый, без тени расчета в своих поступках, он понахватался в Польше внешней «цивилизации», кое-чему научился и, попав на престол, проявил на нем любовь и к Польше, и к науке, и к широким политическим замыслам вместе со вкусами степного гуляки. В своей сумасбродной, лишенной всяческих традиций голове он питал утопические планы завоевания Турции, готовился к этому завоеванию и искал союзников в Европе. Но в этой странной натуре заметен был некоторый ум. Этот ум проявлялся и во внутренних делах, и во внешней политике. Следя за ходом дел в Боярской думе, самозванец, по преданию, удивлял бояр замечательной остротой смысла и соображения. Он легко решал те дела, о которых долго думали и долго спорили бояре. В дипломатических сношениях он проявлял много политического такта. Чрезвычайно многим обязанный римскому папе и королю Сигизмунду, он был с ними, по-видимому, в очень хороших отношениях, уверял их в неизменных чувствах преданности, но вовсе не спешил подчинить русскую церковь папству, а русскую политику — влиянию польской дипломатии. Будучи в Польше, он принял католичество и надавал много самых широких обещаний королю и папе, но в Москве забыл и католичество, и свои обязательства, а когда ему о них напоминали, отвечал на это предложением союза против турок: он мечтал об изгнании их из Европы.