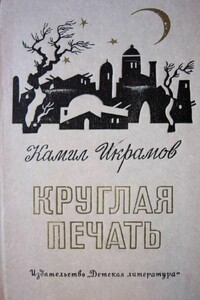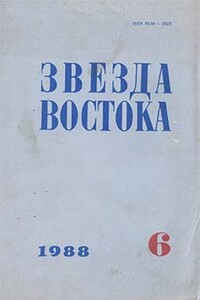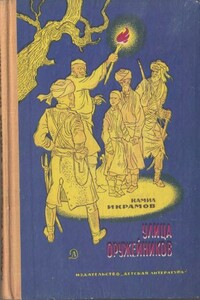Дело моего отца | страница 58
Вместе с волостным — джаноби приходил на ток едикбаши, кишлачный староста, за ним являлся мираб, он же арык-аксакал. Считалось, что мираб — это самый справедливый из людей, ибо именно мираб распределяет воду между кишлаками и между хозяйствами. Мирабу тоже полагалась часть оставшегося на хирмане.
Никогда ни в кино, ни на картине не видел я этого хирмана, в котором воплощалась не только несправедливость, но и покорность, не только нищета, но и безнадежность.
Может, в том дело, что особенности быта тогдашнего русского Востока до сих пор затмеваются в нашем сознании сценами из балета «Бахчисарайский фонтан» и половецкими плясками из «Князя Игоря»?
Я сильно сокращаю все, что называю здесь попыткой беллетристики, хотя основана она на фактах и документах. Для меня мучительно писать в этой книге не от первого лица, но историческая истина требует выхода в любой форме, а я не знаю, как иначе рассказать о двух пластах жизни предреволюционной колониальной окраины Российской империи И рассказ мой построен на документах, на которые был наложен запрет, как и на сам факт существования колоний, колониальной политики и колониальной администрации.
Ложь о добровольном присоединении Туркестана к России, утвердившаяся чудовищными репрессиями Сталина, его ОГПУ, затем Ежова и Берия, должна наконец быть вскрыта. А дело дошло до того, что из школьных учебников десятилетиями вычеркивались даже слова В. И. Ленина о том, что Россия была тюрьмой народов.
Восточный базар только для туристов — роскошь и изобилие, для местных жителей — он скудость и аскетизм. А гаремы и серали, знакомые нам по стихам и олеографиям, — это нечто такое жалкое и страшное, что писать об этом никому неохота.
Маулян-обод — злачное место, где находились публичные дома с девушками и мальчиками для любовных утех. Бача — мальчик, наряженный в женское платье, мальчик, который поет и пляшет, а стоит совсем недорого. Все продавалось здесь, в маулян-ободе, и все стоило гроши. …Пожалуй, нигде в нашем веке и в нашей стране не было такой социальной, национальной и общинной разобщенности, как здесь — в Ташкенте, Самарканде, Коканде, Скобелеве, Хиве и Бухаре. Даже названия наций и народностей были тогда совсем иными, чем теперь, потому что те, кто имел право называть, не признавали ничего, кроме собственного на это права.
Таджики ненавидели узбеков, те отвечали им взаимностью, первые и вторые с презрением относились к остальным жителям степей и гор Туркестана и уже вовсе за людей не считали бухарских евреев, местных цыган — люли, индусов, белуджей, ногаев и иронэ-шиитов.