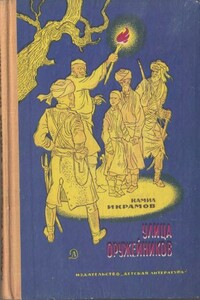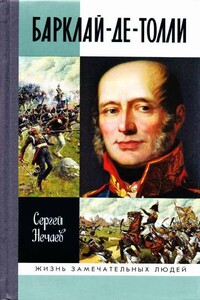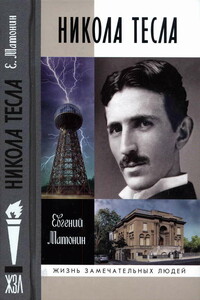Дело моего отца | страница 17
Вот еще весной предложил Иброхимбай новому работнику самостоятельно выезжать с товарами на базары. Семь базаров в неделю проходили в округе. Кто бы отказался быть доверенным приказчиком?
Акмаль отказался. Над торговыми книгами он трудился по вечерам и с интересом, тонкости бухгалтерии понимал, сложные проценты считал в уме.
Бай Иброхим диву давался, как Акмаль ловко составляет счета владельцам двух хлопкоочистительных заводов — татарину Давыдову и поляку Тарсиновичу. Толково он брал товары в кредит. Стоять же за прилавком не хотел.
— Тут, мулла-ака, не ум нужно иметь. Тут другое надобно, чего у меня нет.
Высокого полета парень, думал о будущем зяте пскентский купец. Все увидит и отрежет, что и не заметишь, обидеться не успеешь.
Записав в книгу расходов стоимость ситца и сахарной головы, хозяин ни о чем не пожалел. Наступило новое время, видимо, это время таких непонятных.
С котомкой, переброшенной через плечо, Акмаль шел по начинающей твердеть холодной грязи. Ничто не могло испортить его радостного настроения. Даже значение щедрых подарков не омрачало. Пусть! Жениться он не собирается. Ни на ком. На Ханифе тем более. Голова сахара — отличный подарок. И ситец прекрасный. Мать спрячет его в сундуке и тут же очень скоро — Акмаль знал это — Зохиде подарит, первой и единственной своей невестке, жене старшего брата Карима.
Кенойе, так звал ее Акмаль, была любимицей матери. Тихая, скромная, худенькая, как тростинка, в сложной системе родства она приходилась сыновьям муллы Икрама двоюродной сестрой.
Всем Акмаль нес подарки. Младшим братьям крохотные ножи — пчаки, отцу — несколько аршин английской кисеи на чалму, матери — конфеты и два фунта фисташек. Все это вместе с подарками бая Иброхима составляло поистине достойный по случаю возвращения дар блудного сына.
Притча о блудном сыне занимала Акмаля. Варианты ее в приложении к конкретной ситуации могли быть разными. Не хотелось думать, что все будет по-старому: не зря же ушел он из дома, не зря еще раньше пробовал себя в самой тяжелой работе.
Шел батрак в азиатских остроносых галошах на босу ногу, в дешевом халате и выгоревшей тюбетейке, шел по-летнему одетый, но не мерз. За пазухой половина лепешки, на спине торба. Шел батрак и думал обо всем сразу: о восстаниях, вернее, бунтах, которые небывало всколыхнули в лето и осень 1916-го, если по-европейски считать, целые области Туркестана, о казнях сотен людей, о ценах, взлетевших невероятно, о том, как на глазах стала разваливаться и слабеть система, казавшаяся незыблемо твердой, система такая вроде бы совершенная в своей всепроникающей продажности и беспринципности. Еще он думал о жестком разделении городов покоренного края на две части — азиатскую и европейскую, между которыми самая настоящая пропасть. Лишь тот, кто никогда не бывал в горах, не знает, что пропасти начинаются с самых безобидных расщелин и оврагов.