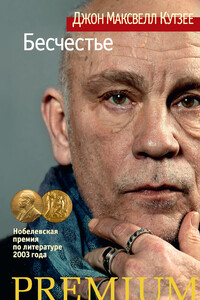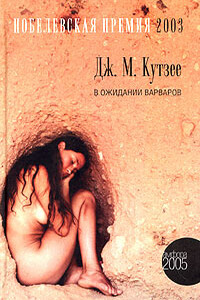Толстой, Беккет, Флобер и другие. 23 очерка о мировой литературе | страница 47
Большая тема поэзии Гёльдерлина – уход Бога или богов и роль поэта в мрачные или обнищалые времена, какие наступают вслед за этим уходом. Как он пишет – с осязаемой робостью – в позднем гимне «Рейн»:
Но что же боги в этой своей удаленности хотят, чтобы мы почувствовали? Нам это неизвестно; нам остается лишь облекать в слова нашу самую пылкую тоску по их возвращению и надеяться, что наши слова, если повезет, тронет огонь небес, и они в некоторой мере воплотят Слово и тем самым преобразят тоску в озарение. (В своей порывистой вере в Слово, которое воспользуется человеком как инструментом, чтобы выразить себя, Гёльдерлин ближе всего к историческому идеализму своего друга Гегеля.)
Греки, замечал Гёте, не тосковали по беспредельному, а ощущали себя в этом мире как дома. Жажда утраченной «классической» цельности – отличительная черта романтизма. Романтическая тоска Гёльдерлина по воссоединению с божественным происходит в нем не только от раннего неоплатонизма, но и от христианских корней. Во всеохватной мифо-исторической схеме, которую он выстроил, Христос считается просто последним из богов, ходившим по Земле до того, как опустилась ночь; однако последние гимны Гёльдерлина намекают на проблески примирения, новой близости с Христом, если не с христианством как религией:
Куда завели бы Гёльдерлина его искания, если б не погас в нем свет в тридцать шесть лет, остается только догадываться. Из его жизни после жизни, из тех лет, что он провел в башне, остался один текст, по которому можно судить о направлении его мысли. В 1823 году его друг и биограф Вайблингер опубликовал фрагмент поэтизированной прозы объемом в семьсот слов, который, по словам Вайблингера, он извлек из бумаг поэта. Если принять подлинность этого документа, он подсказывает, что во времена такой обездоленности, какую Гёльдерлин предвидеть не мог, глубинная надежда в нем осталась не омраченной – его вера, что наша творческая способность, способность к созданию смыслов не даст нам пропасть. Цитирую из перевода Ричарда Сибёрта: