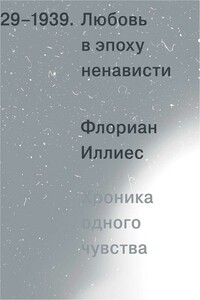А только что небо было голубое. Тексты об искусстве | страница 63
Практики восприятия Везувия переживают удивительную эволюцию на пути от Гёте до Гётцлофа. Но бегство в эстетику, превращение настоящего в «картинку», которое открыл Гёте, остается излюбленным подходом. Соответствующим образом меняются и позиции наблюдателей в картине: от туристов-ученых, охлаждающих свои эмоции рядом с потоками лавы с помощью дискуссий о геологии, к показанным со спины романтикам у Даля и далее к равнодушным местным жителям на картинах Кателя и Гётцлофа. А автором самого остроумного художественного трюка с превращением вулкана в «эффектное явление», как выразился в 1832 году Фридрих фон Румор, был Эдуард Агрикола. В 1837 году он нарисовал «Ночное извержение Везувия», резко обозначив отношения между горой и реципиентом. Слева на переднем плане на дюне лежат два наблюдателя, растянувшись, как на диване, у них на виду вулкан изрыгает пламя, но он совсем ручной: развлечение для субботнего вечера.
Однако в этой истории с вулканом не хватает одного видного – нет, величайшего представителя романтизма XIX века, потому что Каспар Давид Фридрих никогда не бывал в Италии. Во что превратил бы этот мотив он, «первооткрыватель трагедии в пейзаже» (Давид д’Анже)? Величайший романтик XX века Энди Уорхол в 1980 году приехал в Неаполь и увидел Везувий. И Уорхол счел вулкан достойным его искусства, которое доказывало, что повторение в эпоху воспроизводимости не повреждает, а увеличивает ауру. Так Везувий стал Мерлин Монро среди вулканов. Таким образом, в плане восприятия Уорхол оказался в 1980 году там же, где был Гёте в 1780-м. А в 2013 году появилась картина берлинского художника Бернхарда Мартина [99], который подвел итог двухсотлетней немецкой истории восприятия Везувия и постепенного отхода от зачарованности его демонизмом, дав своей работе с Везувием лаконичное название: «Don’t worry».
Дело вкуса. О статусе Коро и Фридриха в музее Штедель, а также anno 1825, 1913, 2015
Вкус – самая неоднозначная, неуловимая и запутанная категория в истории искусств. Более того: она настолько неоднозначная, неуловимая и запутанная, что некоторые историки искусства готовы даже под пытками отрицать, что «вкус» (здесь в кавычках для необходимой дистанции, как будто само слово нужно брезгливо брать кончиками пальцев) вообще является парадигмой, заслуживающей серьезного внимания.
Причина этого древнего и упорного неприятия вкуса в качестве искусствоведческой категории в том, что он релятивирует то, что мы считаем самой надежной почвой: собственную оценку. Ведь когда мы критикуем недооцененность каких-то художников в прошлом или совершенно необъяснимое с современной точки зрения возвеличивание других художников, мы ступаем на очень скользкую дорожку. Если мы констатируем, что при вынесении мнения об искусстве играет роль не только качество произведения, но и его оценка в условиях соответствующей эпохи, то мы тем самым невольно признаем, что и наше собственное суждение, которое мы высказываем в данный момент, точно так же детерминировано господствующей вкусовой доктриной. И если мы в 2015 году любим искусство немецкого движения «Zero»