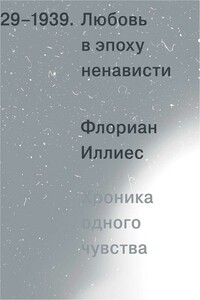А только что небо было голубое. Тексты об искусстве | страница 29
Тому есть много причин: не только то, что эта книга пышет энергией и радикализмом (это основа любого хорошего дебютного романа). И не только скрупулезное описание последствий аборта, сделанного подругой Ханса Баймана, которое едва не помешала выходу книги и которое пробирает до мозга костей любого читателя, способного чувствовать. Но то, как Вальзер потоком текста промывает разные табу, пока на последней странице не обнажаются их болезненные корни – это большое литературное мастерство.
С формальной точки зрения впечатляет перекрещивание четырех отдельных сюжетных линий и глав, предвосхитившее киномонтаж Роберта Олтмена в «Коротких историях». Мы видим Штутгарт («Филипсбург» в романе) глазами четырех пар, несчастливых – каждая по-своему – и держащихся вместе только за счет привычки и ради статуса. Глазами Ханса Боймана мы смотрим не только на прогнившую мораль, но и на причудливых персонажей: например, на директора радиостанции доктора тен Бергена, который панически пытается добиться переизбрания на свою должность, на могущественного главного редактора Гарри Бюсгена, который непрерывно теребит свои очки, на чудаковатого соседа Боймана сверху, неудавшегося писателя Бертольда Клаффа. Бойман и Клафф живут в краснокирпичном доме на запущенной улице Траубергштрассе; социальные низы и их жаргон (включая рассказы проститутки Йоханны) в романе замечательно переплетаются с буржуазными коктейльными вечеринками штутгартского высшего общества, куда Бойман становится вхож в результате помолвки с Анне, дочкой промышленника. Бросается в глаза, что в своих поздних романах Вальзер, как и Федеративная Республика, смещает фокус краев общества в центр и создает много разглагольствующих героев из среднего класса (возможно, это одна из проблем). Так или иначе, один из источников невероятной силы «Браков в Филипсбурге» – непрерывно ощущаемое напряжение между верхами и низами.