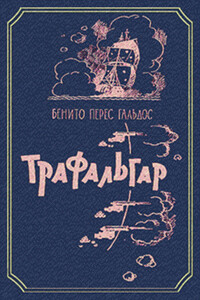Повести о ростовщике Торквемаде | страница 67
— Как же, понял, — сказал Торквемада, теряясь в догадках.
— Невзгоды, нужда, мужество, с которым Фидела и я боремся с жизнью, придали нашей привязанности новые черты…
— Черты… ну, конечно…
— Доброта и мягкость ее характера просто непостижимы, сеньор… Какие тяжкие испытания вынесла она с покорностью поистине христианской! В том возрасте, когда девушки ищут светских развлечений, она живет смиренно и безропотно, в нищете, в безвестности. Ее самоотверженность — прямо подвижничество — разрывает мне сердце. Поверите ли, если бы я могла ценой страданий, еще больших, чем те, что я вытерпела, создать бедняжке другую жизнь, я не колеблясь, пошла бы на это. Ее кротость — единственное благо нашего печального дома. За эту жертву, приносимую в молчании (отчего она только дороже и достойнее), я бы хотела как-нибудь вознаградить ее… Но, — смутилась Крус, — я и сама не знаю, что говорю… Как бы это объяснить… Простите, ежели докучаю вам своей болтовней. В голове у меня такая каша… Ах, иной раз просто ум мутится от всех забот и мыслей. Право, чем больше думаешь, тем хуже; кажется, что голова пухнет! (Она засмеялась.) Да, да… Но, однако, не стоит надоедать друзьям… Извините меня и пойдемте навестим моего брата.
Они направились к комнате слепого. Торквемада не открывал рта, да если бы и хотел что-нибудь сказать, то, верно, не смог бы: красноречие благородной сеньоры так его обворожило, что почти все его мысли разлетелись неведомо куда, а на оставшихся он, одурев, никак не мог сосредоточиться.
В лучшей комнате дома — кабинете с балконом — неподвижно сидел в кресле Рафаэль дель Агила, точно застывшее на черном пьедестале печальное изваяние. До глубины души поразил Торквемаду вид слепого юноши: возвышенная грусть его благородного лица, кроткого и смиренного, напоминала икону, невольно внушающую чувство набожного почтения
Глава 6
Я не случайно сказал «икона»: в облике Рафаэля было нечто родственное скульптурным изображениям юных мучеников и спасителя нашего на молитве. Это сходство еще усиливалось полной неподвижностью позы, вьющейся каштановой бородкой, оттенявшей бледную восковую кожу, женственной и болезненной красотой лица и незрячим, лишенным выражения взглядом.
— Сеньоры ваши сестрицы сказали мне, что… — пролепетал пораженный посетитель. — Так вот… очень это прискорбно для вас — потерять орган… Но кто знает. Есть ведь хорошие доктора…
— Ах, сеньор мой, — отозвался слепой мелодичным и проникновенным голосом, от которого скрягу бросило в дрожь, — благодарю вас за слова утешения, но они — увы! — бесполезны: надежды больше нет.