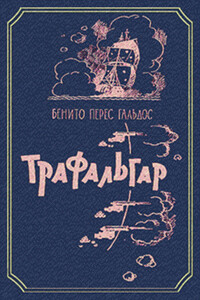Повести о ростовщике Торквемаде | страница 51
— Не знаю, что со мной, — говорил Душегуб, — похоже, конец мне пришел.
Тяжелые вздохи и глухие рыдания скряги не смолкали почти до рассвета; затем острый приступ горя вновь охватил его. Торквемада метался, твердил, что хочет видеть сына, «воскресить его любой ценой», порывался соскочить с постели… Байлон, мясник и остальные друзья едва могли удержать его и успокоить. Под конец им все же удалось уложить беднягу, чему немало способствовали философские рассуждения дона Хосе и мудрые изречения мясника, человека неграмотного, но доброго христианина.
— Вы правы, — пробормотал дон Франсиско, подавленный и безвольный. — Что еще остается мне, кроме смирения? Смирение! Толковать-то о нем легко! Судите сами, много ли проку быть добрей ангелов, посвятить себя обездоленным, творить добро тем, кто нас терпеть не может — и вида нашего не выносит… Нет уж, чем благодетельствовать разным мошенникам да швырять деньги, которые все равно перекочуют в кабаки, притоны и ломбарды, я потрачу их на похороны Валентина. Да, я устрою моему сыну — чуду природы — великолепное погребение, доселе не виданное в Мадриде. О, что за сын! Как пережить его потерю? Ведь то был не просто сын, а божественное дитя, порожденное мной вместе с предвечным отцом… Разве я не обязан устроить торжественные похороны?.. Эге… оказывается, уже светает… Сейчас займусь выбором погребальных дрог, да надо будет напечатать всем профессорам приглашения на траурной бумаге.
Суетные эти планы вызвали прилив сил в душе Торквемады; в девять часов утра, встав и одевшись, он уже твердо и спокойно отдавал распоряжения, плотно позавтракал, принимал друзей, приходивших утешать его, и всем твердил одно и то же:
— Смирение!.. Что нам еще остается… Святым ли заделаться, Иудой ли — прок один. Сочувствия и милосердия к тебе будет столько же. Ох уж это мне милосердие! Славная удочка — дураки на нее без приманки ловятся!..
И вот состоялись пышные похороны, и стеклись на них толпы народа — все люди почтенные и уважаемые — к вящей гордости тщеславного Торквемады. То был единственный бальзам для глубочайших ран его души. В скорбный день, когда тело чудесного ребенка снесли на кладбище, в доме разыгралась горестная сцена. Руфина, бродившая по дому, вдруг увидела, что отец ее выходит из столовой с побелевшими усами. Она перепугалась, решив, что он внезапно поседел. Оказывается, безутешный отец, охваченный невыносимой мукой, пошел в столовую, снял со стены грифельную доску, еще хранившую следы решения задач, — для него она была словно слепок, запечатлевший обожаемые черты сына, — и осыпал поцелуями холодную черную поверхность. Мел пристал к мокрым от слез усам ростовщика, который словно вмиг состарился. Все присутствовавшие при этой сцене были растроганы и даже прослезились. Дон Франсиско унес доску к себе в комнату, велел заказать резчику дорогую золоченую раму, вставить туда доску и повесить ее в спальне на самом виду.