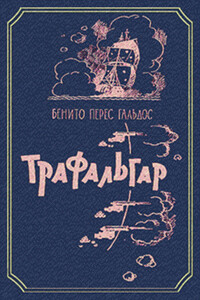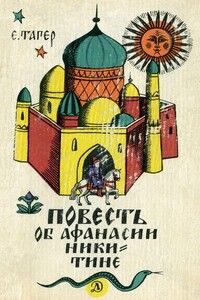Повести о ростовщике Торквемаде | страница 21
Торквемада относился к нему с большим уважением: Байлон умел пускать пыль в глаза и снискал у своих клиентов славу человека честного и даже щепетильного. Поскольку жизнь расстриги была такой пестрой и бурной, — а он умел расписывать ее еще занятнее, обильно уснащая свой рассказ всякого рода небылицами, — дон Франсиско слушал приятеля развесив уши и во всех вопросах высшего порядка считался с ним, как с оракулом. Дон Хосе был из тех краснобаев, что, ловко орудуя полдюжиной мыслей да десятком-другим слов, умеют выдать невежество за глубокомыслие и без труда ослепляют простодушных глупцов. Больше всех ослеплен был им дон Франсиско — единственный смертный, читавший писанину Байлона спустя десять лет после ее опубликования. То были мертворожденные творения, чей мимолетный успех не будет понятен читателю, если не сказать, что сентиментальная демагогия — с претензией на стиль пророка Иеремии — занимала там отнюдь не последнее место.
Излагая свои благоглупости, Байлон вставлял порой что-нибудь архисвященное, например: «Слава в вышних богу и на земле мир», — или разражался туманными периодами: «Грядет время искупления, когда сын человеческий станет хозяином земли».
«Восемнадцать веков назад святой дух посеял божественное семя. В беспросветно-темную ночь дало оно всходы, и ныне — се плоды его. Как нарекутся они? Права народа».
А иногда неожиданно для читателя Байлон обрушивал на него потоки выспренного красноречия: «Вот он, тиран. Да будет он проклят!»
«Напрягите слух свой и скажите мне, откуда доносится этот странный, неясный шум».
«Приложите руку к земле и скажите мне, отчего она содрогнулась».
«Се грядет сын человеческий — восстановить первородство свое».
«Отчего лик тирана бледнеет? Ах, он видит, что часы его сочтены…»
Иной раз он начинал так: «Юный воин, куда идешь ты?» — а когда после долгих словоизлияний заканчивал главу, читатель так и оставался в неведении: куда же все-таки шел тот солдатик, уж, не в дом ли умалишенных вместе с автором?
Дону Франсиско, человеку малоначитанному, все это казалось подлинными перлами красноречия. По вечерам оба процентщика выходили иногда прогуляться, беседуя о том и о сем. Если Торквемада был Соломоном в делах наживы, то в других вопросах не было человека мудрее сеньора Байлона. По части политики бывший священник считал себя особенно большим знатоком; он заявлял, что у него раз и навсегда отбили охоту якшаться с заговорщиками: теперь у него есть надежный кусок хлеба, и он не желает рисковать своей шкурой ради того, чтоб кучка болтунов отращивала себе брюхо. Затем он клеймил всех политических деятелей, — от самого прославленного до самого безвестного, — изображая их сборищем мошенников, и подсчитывал награбленное ими с точностью до одного сентимо. Друзья обсуждали также реформы в области градоустройства; Байлон живал в Париже и в Лондоне, и ему было с чем сравнивать. Общественное здравоохранение сильно волновало их умы; расстрига винил во всем миазмы сточных вод и развивал медицинские теории, которые стоило только послушать. Он также кое-что смыслил в астрономии и музыке и не был профаном в ботанике, в искусстве врачевать лошадей и выбирать дыни. Однако ни в чем его всеобъемлющий ум не блистал так ослепительно, как в вопросах религии. Размышляя во время долгих бдений над священным писанием, он глубоко проник в величественную и дерзновенную тайну человеческих судеб.