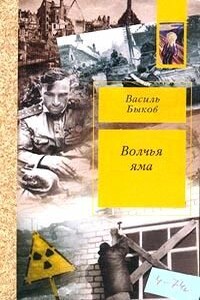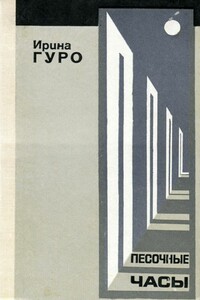Атака с ходу | страница 37
- А где он теперь, Бобранов этот? - спросил я.
- Месяца два командиром дивизии был. Не нашей, правда, соседней. А потом я в госпиталь загремел, а вернулся, в армии его уже не было. Говорили, будто тоже по ранению выбыл. А часики те у меня, как был без сознания, санитары, сволочи, уволокли. Не сберег - всю жизнь жалеть буду. Они мне дороже ордена были.
Ананьев докурил и каблуком сапога затоптал окурок.
- Ну, хватит болтать. Пойду пройдусь, - сказал он и, толкнув меня, встал. - Вы тут хотя не все спите. Не курорт вам.
Мы не спали - мы сидели и прислушивались. Слышно было, как он вылез и прошлепал по грязи к траншее. Как только его шаги затихли вдали, Цветков потянулся руками к ящику, зазвякал там чем-то, наверно искал свою флягу.
Стало тихо и скучно.
Кое-как притерпевшись к боли в плече, я, кажется, начал дремать. Ощущения реального путались, размытая явь перемежалась случайными видениями прошлого, обрывками каких-то фраз, мыслей.
Снаружи в траншее кто-то все еще долбил ячейку, «тук-тук» - раздавалось за моей спиной, и постепенно в полудреме я начал воспринимать этот звук, как знакомый полузабытый стук топора в детстве.
Тем летом мы строили новую хату, вернее, строил ее отец. Стоит закрыть глаза, как явственно видишь его худощавую, в неподпоясанной рубахе, полусогнутую фигуру на срубе, корявые большие ступни, упертые в смолистые бока бревен - отец зарубает углы. Целое лето под это «тук-тук» отцовского топора я засыпал вечером и просыпался утром на зорьке. Позже, когда приходило время завтрака и мама ласково-тихим голосом будила нас, ребятню, в клуне, стука уже не было слышно, потому что не было отца - в это время он давно уже зарабатывал трудодни в поле. Я не знал, когда отец спит, не видел его хотя бы минуту в праздности, он и курил на срубе, не выпуская из рук топора, ел стоя, накоротке, спешил, не ходил - всегда бегал, сгружал, нагружал камни, сам поднимал тяжелые бревна, пилил, бесконечно тесал.
И так все лето - без выходных и праздничных, в жару и ненастье - раненько по утрам, в полдень, до глухой темноты вечером. За жадность к работе отца даже прозвали тогда Двужильным. Но он не был двужильным - я видел, как отец уставал, и как ему было трудно: просто нам нужен был дом, новая изба - старая, струхлевшая хатенка уже влезла по самые окна в землю, прогнила, не защищала от ветра, а зимой промерзала по всем четырем углам, мы, ребятишки, часто простуживались, и мама плакала, приговаривая, что эта халупа ее вгонит в гроб.