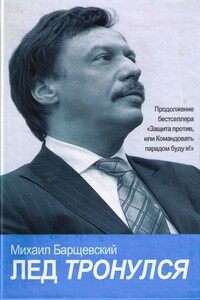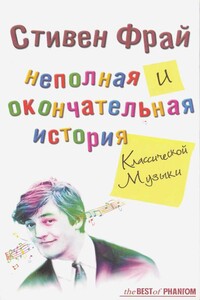Ниоткуда с любовью | страница 5
... Эмигрировать - все равно что совершить самоубийство с расчетом на скорую помощь. Гораздо надежнее, когда тебя просто выкидывают из здания светлого будущего: звон разбитого стекла и вопли означают заодно и ожидающую внизу бригаду врачей. Но в обоих случаях жизнь со сломанной спиной - это пожизненное распятие. Скрепки в позвоночнике держат не спину, а развалившийся мир. Новое самосознание начинается все так же - с боли..."
* * *
Журнал был из новых, читаемых, странных. За успехом маячила обреченность: люди были слева, деньги справа. На фотографии Борис был похож на младшего брата - та же кривая ухмылка, прищуренный глаз. Но вывеска парижской булочной на заднем плане рокировку исключала.
Ожил телефон. Звонили соседи по прошлой жизни. О существовании на новом берегу одних он и не догадывался, о других и вовсе забыл. Мыча что-то в трубку, выгадывая время, мучительно роясь в захламленном углу памяти, среди миниатюрных пирушек и трамвайных встреч, он вытягивал за хвост спотыкающийся заснеженный переулок на Старом Арбате; кривой особнячок - запах мастики, оттаивающие на вешалке шубы, священнодействующий наверху рояль - все это существовало, а вот супруги Маклаковы, в два голоса протискивающиеся в трубку, никак не воплощались.
"А помните, Борис Дмитриевич, - (он и отчество не запамятовал!), - вы еще обронили шарф и я возвращался?.."
Приходилось соглашаться, договариваться о встрече, записывать русскими буквами плохо звучащий французский адрес - ничего, потом найду по плану - и накануне звонить, ссылаясь на дядю из Цинциннати, простуду, неожиданную беременность, выступление в клубе эксгуматоров-любителей, - одним словом, безбожно лгать, чувствуя головокружение и тоску.
Супруги Маклаковы со Скрябинским музеем вытащили на свет божий, сами того не зная, призрак молодого человека в волчьей ушанке. Припоминая его, Борис пропустил автобус. Стоял, бессмысленно таращась в лиловую лужу, пытаясь увеличить удаляющуюся сутулую спину. Соскальзывало. Память не срабатывала, и приходилось все прокручивать сначала. Спина приближалась, наезжал торчком стоящий воротник легонького пальто, глыбы грязного льда обозначали февраль. Подкатывал из парижской действительности автобус, Борис садился, арбатская кариатида с сифилитически облупленным носом сгущалась в вечереющем воздухе, мелькал Бульмиш, нужно было сходить, и, уже огибая Люксембургский сад, раскрывая упрямый, не в ту сторону выгибающийся зонт, он вспоминал, с идиотской улыбкой останавливался, спазм памяти ослабевал, и волчья шапка с облегчением удалялась навеки, и с грохотом рушилась преувеличенно стеклянная метровая сосулька.