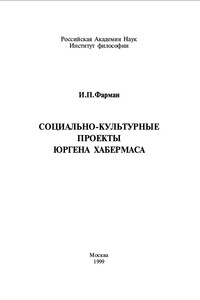Среда обитания: Как архитектура влияет на наше поведение и самочувствие | страница 59
Тут прежде всего следует ответить на важный вопрос: когда и как острые ощущения ушли из музеев? Помню, в свои школьные годы я ни одного мероприятия не ждал с таким нетерпением, как ежегодной экскурсии в Королевский музей Торонто. Когда желтый автобус останавливался напротив массивного портала старинного, освященного веками здания, дети тотчас вскакивали с мест и наперегонки бежали к входу, борясь между собой за право первым пройти через эти двери и оказаться лицом к лицу с Древним Египтом. Безусловно, в первую очередь нас привлекал не столько шанс исследовать загадочные, прекрасно сохранившиеся иероглифы на египетских сосудах, коих в музее имелась богатая коллекция, сколько возможность поглазеть на человеческую мумию, покоящуюся внутри саркофага. Мы жаждали этих впечатлений! Даже для наших юных, несформировавшихся умов было очевидно, что мы находимся рядом с чем-то подлинным, что шанс разглядывать сквозь стекло все эти глиняные вазы и ювелирные изделия, возраст которых даже не укладывается у нас в голове, позволяет нам соприкоснуться с временами, мыслями и местами, не досягаемыми никаким иным способом. Многие из нас только и ждали момента, когда смотритель отвернется и можно будет быстро просунуть руку за ограждение и прикоснуться к древности в самом прямом смысле слова. Мне хочется думать, что в этих мелких нарушениях музейных правил нами двигало нечто большее, чем просто желание пощекотать себе нервы, как у участников проекта Chromo11 Брендана Уолкера. Скорее это были попытки прорвать пальцами толщу веков и физически ощутить связь с великой древней цивилизацией.
А вот что я отмечаю уже как родитель детей, которым сейчас примерно столько же лет, сколько было мне во времена моих захватывающих школьных приключений в музее. Как-то раз я взял своих отпрысков на экскурсию в местный научный музей, одним из самых ценных экспонатов которого была настоящая каменная глыба с поверхности Луны. Когда мы подходили к ней, мурашки побежали у меня по спине в предвкушении волнующего опыта – не столько собственного, сколько моих детей. Я представлял, что это значит для ребенка – стоять перед предметом, доставленным астронавтами из космоса. Реакция маленьких спутников меня разочаровала. Они рассматривали сквозь стекло серый кусок камня с таким видом, будто ожидали чего-то большего. Сама по себе подлинность экспоната, похоже, не сильно их впечатлила. Спустя некоторое время я спросил детей об их самых ярких музейных впечатлениях, и они рассказали, как им понравились пластиковые реконструкции скелетов животных и экраны дополненной реальности, показывающие, как выглядели динозавры, чьи окаменелые кости лежали тут же. Стараясь, чтобы мои вопросы не звучали как наводящие, я спросил у детей, важна ли для них подлинность. Например, глядя на кучу костей, отдавали ли они себе отчет в том, что это настоящие окаменелые кости животного, жившего тысячи лет назад? Ответом мне было в основном смятение да пожимание плечами. За короткий период времени произошла какая-то важная перемена в восприятии – и, похоже, не только у детей. Кажется, наша тяга к аутентичности трансформировалась в тягу к точности воспроизведения. Нам теперь важнее то, что вещи выглядят настоящими, чем то, что они таковыми являются. И эта важная перемена в восприятии оказывает серьезное влияние не только на нашу способность оценить кости шерстистого мамонта, но и, в более общем смысле, на то, как мы реагируем на места и события.