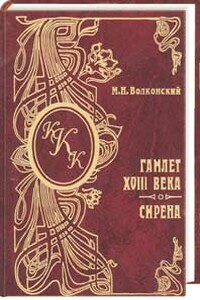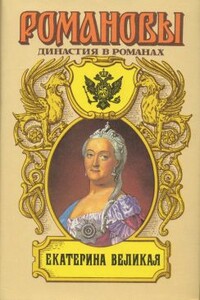На задворках Великой империи. Книга вторая: Белая ворона | страница 90
Сергей Яковлевич был подавлен. Глухой отголосок русской трагедии коснулся его сердца явью, и это было тяжело. Оттого еще тяжело, что нечего было возразить. Можно только снять шляпу и склониться перед человеком, которого ранили дважды. Там и здесь.
И вдруг эта толстая свинья за соседним столом повернула к ним свое рыло, а в петлице – тоже гвоздичка из Ниццы, как и у князя Мышецкого.
– Много вам платили, – сказал капитану. – Меньше пить надо было, оно бы и завертелось в другую сторону…
Костыль, ловко пущенный, как стрела, пролетел мимо груди Мышецкого, произведя грандиозное разрушение на столе толстяка. Он сбрасывал с панталон ошметья салата, соус провансаль проступал на его жилетке, как пятна ржавчины.
– Что я сказал? Что я сказал? – кричал толстый мерзавец. – Вы, сударь, привыкли там рукопашничать… Но я тебя, сороконожку, под кодекс подведу… Эй, рубль дам – свисти!
Инвалид сделался страшен, сказал лакею:
– Свистни! Я тебе свисток в горло заколочу…
Сергей Яковлевич не поленился – сходил за костылем.
– Не волнуйтесь, – сказал он капитану. – Сегодня, я знаю точно, вся полиция на окраинах, гоняет рабочих, и этот негодяй будет искать городового до самого вечера. Мы позавтракаем…
Лакей наметанным взглядом уже определил бедность капитана и не убирался прочь, бодро взмахивая полотенцем…
– Извольте расплатиться, сударь, извольте…
Капитан встряхнул портмоне, долго перетрясал под скатертью мелочь. Прикидывал. А по щеке ползла горькая слеза обиды. Мышецкий торопливо сунул лакею бумажку – с лихвой.
– Не заслоняй солнце, братец! – сказал резко.
– Ах, сударь, – поднял лицо капитан. – Мне так неловко…
– Сочту за честь, – кивнул ему Мышецкий и сам потянулся к графину офицера: – Позволите?
– Водки? – обрадовался фронтовик-маньчжурец.
Мышецкий разлил водку по рюмкам.
– А почему бы и нет? – засмеялся. – Ей-ей хорошо…
И весь день гулял, а краем уха все слушал – нет ли выстрелов? Все-таки – первое мая, день опасливый…
А из восточного далека уже подкрадывалась к России весть о разгроме флота, и она, эта весть, обрушилась на Петербург, словно карающий меч…
Начинался «великий позор» (как говорили тогда о Цусиме), и этот позор был страшен тем, что никто в России не остался к нему равнодушен. Война была непопулярна, – это все так, но гибель флота – нет, нет! Известие о Цусиме отозвалось одинаково больно и в Зимнем дворце, где терли глаза фрейлины, и в подворотнях на Обводном канале, где сморкались в подолы фартуков далеко не сентиментальные дворники.