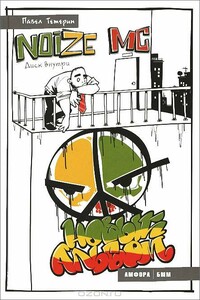Некий господин Пекельный | страница 82
Для вас никакой тайны нет. Вы вторглись в пантеон словесности, одурачили всю Францию, подняли на смех критику, браво, маэстро, – о небо, видела бы это ваша матушка! А теперь-то что делать? Гонкуровская премия у вас уже есть, получить ее дважды нельзя по уставу. Признаться? Публично объявить, что Ажар – это вы? Или подбросить, как бомбу, Павловича?
Поль Павлович – ваш внучатый племянник. Ему тридцать три года, и столько же он перепробовал профессий, грива черных волос, чувство слова, густые усы, пронзительный и беспокойный взгляд, вдобавок к этому запои, книжные и алкогольные, и устрашающий вид – такой, того гляди, залепит в морду. Он согласился взять на себя роль Эмиля Ажара. Итак, отныне Поль – это Эмиль, а Эмиль – это Поль, который говорит: спасибо за Гонкуровскую премию, но мне ее не надо, однако Гонкуровскую премию, как отвечает ему в прессе президент одноименной академии, “нельзя принять или отвергнуть, как рождение или смерть”. И тут Павлович, войдя в роль, дает интервью “Монд”, снабженное фотографией скверного качества, но не настолько скверного, чтобы один журналист его не узнал, другой не раскрыл его подлинное имя, место жительства и родственные связи, и так, шаг за шагом, дорожка приводит к вам, к Ромену Гари.
Квартиру на улице Бак осаждают репортеры с камерами и микрофонами: ведь Ажар – это вы? Тогда вы выставляете в приоткрытую дверь револьвер, орете во все горло: “Пошли вон!” – и публикуете в “Монд” черным по белому написанное заявление: нет, вы НЕ Эмиль Ажар. И так яростно вы протестуете, так академично написаны ваши последние книги, что вам поверили – ну правда, не могло такое чудо, как “Жизнь впереди”, выйти из-под дряхлого пера старого догматика; а чтобы спутать следы, окончательно их замести, сбить с толку разом публику и прессу, вы пишете “Псевдо”, третью книгу Ажара, безумную, безжалостную, в которой выводите Павловича хрупким, подверженным приступам бреда и тревоги человеком, который сводит счеты с неким Тонтон-Макутом, “известным писателем”, а по сути “сволочью”, “греховодником, каких мало” и всегда умевшим “сделать на ужасе и страданиях хорошенький литературный капитал”[44].
Проходят месяцы и годы, наступает январь 1980-го, вы продолжаете игру в двойное Я, которая становится все менее забавной и начинает постепенно раздражать, потом тревожить и, наконец, серьезно мучить вас: что, если все раскроется? Что станет думать ваш издатель? Что скажут боевые товарищи? Члены Гонкуровского жюри? Вдруг будут говорить, что всю эту историю замутили два еврея, чтобы сорвать немалый куш? А налоги? Не пахнет ли тюрьмой? Да еще Поль, который вынужден служить марионеткой, – его тоже явно перестало забавлять это дело.