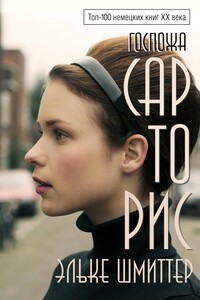Некий господин Пекельный | страница 29
В Венеции, в зале Большого Совета Palazzo Ducale, висят портреты семидесяти шести дожей – всех, кроме Марино Фальеро, – его лицо с седой бородой и крупным носом заменено черным свитком, после того как он был осужден за измену и казнен здесь же, во дворе, а также приговорен к damnatio memoriae (проклятие памяти), посмертному приговору к забвению; такое наказание применялось в Древнем Риме и состояло в том, чтобы любыми средствами уничтожить задним числом все следы существования преступника.
Я уж подумал, не приговорен ли и Пекельный, хоть он, судя по всему, не был ни дожем, ни императором, к такому же damnatio memoriae. Архивы уцелели – ради этого люди рисковали своей жизнью, – но его имя пропало, вернее, осталось только на страницах книги Гари, как будто с любых других страниц его целенаправленно стирала беспощадная резинка.
Зима в Вильнюсе черно-белая. Утром светлеет только в девять, а в четыре часа дня уже опять темнеет, город заливает чернотой. Ну а в промежутке он белый: крыши домов, купола церквей, капоты машин и даже следы их колес на дорогах – все белым-бело.
Первый раз я очутился в Вильнюсе случайно, это было весной, и в городе шел дождь. Вторично я туда попал зимой, шел снег, и прибыл я намеренно – решил сам, лично просмотреть списки жильцов дома 16 по улице Большая Погулянка. Могло же статься, что сотрудники архива листали их небрежно, думал я, или просто ошиблись, мне нужно убедиться собственными глазами, что в регистрационных книгах никакой господин Пекельный не значится.
Я нагрянул в архивы декабрьским утром, без предупреждения, точно охотник на снегу с картины Брейгеля Старшего. Из такси вышел в полной боевой экипировке: на голове ушанка, пальто застегнуто под горло, руки в перчатках и в карманах, карманы с шерстяной подкладкой, так что холодный ветер нипочем, – таким же холодом повеяло от безобразного, казенного, лекорбюзьевидного монстра постсоветской постройки, воздвигнутого на пустыре, где прежде был лес, пока бульдозер не снес сотни ясеней, дубов и лиственниц, чтобы на этом месте выросло бумагохранилище.
Приходите в понедельник, сказали мне (так сухо, резко, хамовато, как если бы без лишних церемоний посылали меня по известному адресу). А дело было в пятницу, и в воскресенье мне непременно нужно было вернуться во Францию; ну, ладно, сказал я с досадой, приду в понедельник через месяц-другой. Но все же, хотя мне в тот раз не удалось посмотреть списки жильцов, я не потерял время напрасно: на другой день я пошел в Старый город с Далией Эпштейн, я обратился к ней, поскольку она была местная и хорошо знала все, что связано с Гари. Далия – еврейка, – но не религиозная, как она уточнила, – родилась она в Литве до войны, была эвакуирована в СССР, где, в пику власти, выучила французский и говорила на нем превосходно, равно как на русском, английском, литовском, идише и польском (еще чуточку знаю по-испански, прибавила она, а я, прибалдев, зачем-то ляпнул, что тоже… чуточку… по-пикардийски).