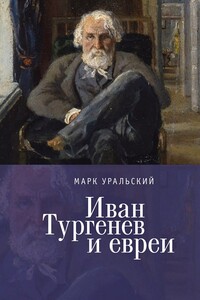Молодой Алданов | страница 42
Что же касается алдановской книги «Толстой и Роллан», то она «не только свидетельство того пиетета, который ее автор испытывал к Толстому, пожалуй, единственному русскому писателю, которого он любил безоговорочно»[86], - но и мировоззренческий дискурс, в первую очередь, конечно, связанный с Мережковским, по стопам которого при анализе практически всех толстовских тем[87], так или иначе, идет Алданов. Но если Мережковский-мыслитель считает, что «великий Лев» - «вредный» для истинно русского Духа гений, и уж, конечно, не наше все, то для Алданова Лев Толстой олицетворяет собой квинтэссенцию русской духовности. При всем этом и тема «фатализма» у Толстого, и рассуждения об «одержимости» писателя демоном иронии, и анализ толстовской танатологической проблематики у Мережковского и Алданова во многом совпадают.
Это касается, например, рассуждения Мережковского об «одержимости» писателя демоном иронии: данный тезис у Алданова предстает в форме наблюдения, что, мол, в благодарности Толстому, как и в его высокой оценке, всегда звучит нота глубокого недоверия и даже иронии - тонкой, незаметной, истинно толстовской иронии. Явное совпадение точек зрения имеет место и в анализе танатологической проблематики у Толстого. Мережковский, в частности, утверждал, что «если в наше время люди боятся смерти с такой постыдной судорогой, какой еще никогда не бывало, <...> то в значительной мере мы этим всем обязаны Л. Толстому»