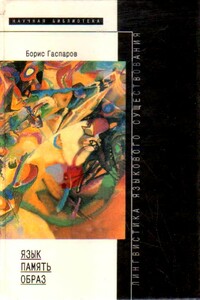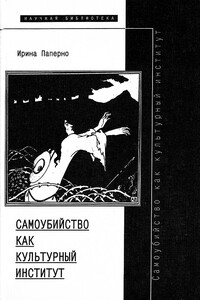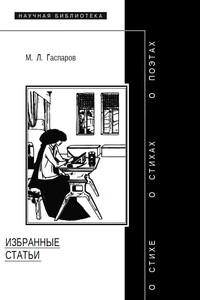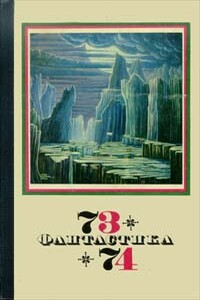Блокадные нарративы | страница 16
Этой редукции подлежали «прежде всего неконтролируемые и непредсказуемые переживания: страх, физический и психологический дискомфорт (боль, голод, холод), чувство крушения всей довоенной картины мира, агрессивные проявления животного начала в человеке в экстремальных обстоятельствах (столь же частые, как и героизм). Особая военная антропология формируется также через новое ощущение телесности – тело человека на войне или в тылу оказывается болезненным и тяготящим и в то же время воспринимается как часть единого страдающего коллективного тела»[16]. Во время войны все эти факторы резко усугубляются из-за «государственного давления на все сегменты общества, многократно усиливавшего собственно тяготы войны: террор и принуждение на фронте (политотделы, заградотряды) и в тылу (депортация народов, «превентивные аресты» и аресты за «пораженческие разговоры» и пр.), репрессии в отношении военнопленных, людей, бывших в окружении или живших на оккупированной территории»[17].
Столкновение мобилизационных задач, новой реальности и на глазах отменяемых эстетических конвенций создало новую ситуацию «дискомфортного» письма. Его возникновение превратило историю советской литературы о войне в историю адаптации эмоционально дискомфортного опыта для нового обоснования советской идентичности и историю отвержения опыта, дискомфортного экзистенциально. Это разделение позволяет понять характер мобилизационной задачи советской военной литературы, состоящей в блокировке экзистенциально дискомфортного самоощущения за счет расширения зоны эмоционального дискомфорта. Последний требовал отказа от прежних героических конвенций, вообще чуждых какому-либо дискомфорту, но не позволял сложиться принципиально новой эстетике изображения войны. Да, «при такой смене оптики принципиально важным оказалось фиксировать ежедневные “мелкие” ощущения, саму ткань повседневного восприятия мира <…> Следствием такого отношения к описываемой реальности становится деидеологизация текста»[18], но функция этого письма состояла прежде всего в блокаде реальности. Именно к ней сводилась новая, очеловеченная эстетика соцреализма.
Побочным продуктом разрешенного трагизма стала интимизация опыта. Разучившись говорить с читателем без посредства соцреалистических конвенций, литература обратилась к дневниковой форме. Ни одно направление (течение, тема) в советской литературе не породило (в пропорциональном отношении) такого количества дневников. Более того, именно дневники занимают центральную часть среди значимых