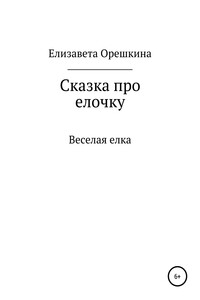Не кормите и не трогайте пеликанов | страница 78
– Пересядьте, пожалуйста! – командирский голос бритоголового прерывает мои мысли. – Вот сюда, да.
Я пересаживаюсь из-за стола на один из двух стульев, стоящих вдоль стеклянной матовой стены, и сразу понимаю, что тем самым перехожу в какой-то новый статус, что я уже затянут машиной судопроизводства и что из этого аквариума мне уже не вырваться. И черт с ними со всеми! Пусть делают что хотят… Стук вдруг становится тише, глуше, покидает вещи. Одна часть его отползает к бритоголовому, другая – к электронным часам на стене.
Час проходит в томительном ожидании, под сухое перестукивание клавиатуры и больших электронных часов на стене. Если меня отпустят и я смогу уйти – ничего не изменится. Стук внутри меня все равно останется. Это как если бы я продолжал тут сидеть или стоял с веревкой на шее и связанными за спиной руками на мосту через совиный ручей. Судьба сначала наполняет страхом, а затем равнодушием; она обездвиживает, лишает воли, и, чтобы оставаться на одном месте, нужно все время бежать вперед изо всех сил. Время не переспоришь. Даже моралью и научными докладами.
– Время не переспоришь, не заговоришь, а ведь век – всегда зверь, волкодав, и человеку его хочется победить, сделаться степным матерым волком или, что желательнее, наоборот, не сделаться, – произнес нараспев Петр Алексеевич, и в этот момент у него носом пошла кровь.
Он читал доклад о проблеме времени в романтической эстетике в каком-то небольшом концертном зале с широкой сценой и креслами. Это был даже не доклад, а скорее вступительное слово, предварявшее неизвестно по какой причине выступление струнного квартета. Накануне Петр Алексеевич позвонил, говорил со мной осторожно, пригласил меня прийти – я согласился с неохотой. Мы не виделись почти год, хотя прежде встречались чуть ли не раз в неделю. Петр Алексеевич к тому моменту уже изрядно надоел мне своими религиозными умствованиями, своим неприятием всего нового, прогрессивного, либерального; и не только мне надоел, но всему факультету, даже двум факультетам, где он продолжал преподавать. Мы, молодые преподаватели, соглашались между собой, что ему уже давно пора на заслуженный отдых.
Но тема выступления совпадала с моими интересами, и я явился. Уселся в первый ряд. Публики было немного – по телевизору в тот день транслировали полуфинал чемпионата мира по футболу. Петр Алексеевич вышел на сцену под жидкие вежливые аплодисменты, узнал меня, приветливо кивнул, встал за кафедру и принялся читать доклад. Мне показалось, что он сильно исхудал, одряхлел за то время, что мы не виделись, и оттого сделался смешным. Волосы стали жидкими, круглые мясистые щеки ввалились, стали болезненно бледными, и большой нос, по-прежнему красный, казался клоунским, насильно прилепленным к лицу для соблюдения комичности жанра. Он только начал говорить, произнес фразу о времени, о веке, – и тут у него пошла носом кровь.