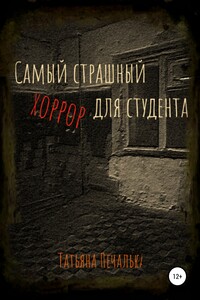Не кормите и не трогайте пеликанов | страница 53
– А теперь представьте, – сказал Петр Алексеевич, поднимаясь, его узкие глаза в удивлении округлились, – что человек сам себя создает. Причем с нуля, с рождения. Не имея ни малейшего понятия об анатомии. Представили?
Он растерянно развел руками. Я тоже встал со своего места и принялся собирать нашу посуду на поднос.
– Вот он выберет один глаз вместо двух, одну руку и два рта, например. Давайте я вам помогу, Андрей?
– Спасибо, я уже…
Мы направились к столу с грязной посудой.
– Надо же о других думать! – сказала нам вслед преподавательница французского. – Хотя бы иногда!
– Так вот, – продолжил Петр Алексеевич. – Выберет все это, а про почки с печенью забудет. И кем этот ваш либеральный человек получится? Калекой… Понимаете? И при том, что самое ужасное, самодовольным, глупым калекой!
Круглое мясистое лицо Петра Алексеевича, всегда такое живое, вдруг болезненно дернулось. Мне даже показалось, что у него в глазах блеснули слёзы. Но это упрямство раздражало. Сделалось обидно. Мы, его ученики, всегда гордившиеся учителем, только-только начали что-то новое – а он взял и плюнул в нас.
– Знаете что? Вы рассуждаете как реакционер! – объявил я и поставил поднос на стол с грязной посудой. Мы подошли к выходу, и я пропустил Петра Алексеевича вперед.
– Нет уж, после вас, – улыбнулся он, и я прошел первым.
– Мир меняется, – раздраженно сказал я, когда мы вышли в коридор. – Вы же сами нас учили, что Бог – это время, что дух являет себя в разное время по-разному и что даже откровение надо принимать сообразно времени. И не следовать букве…
Разговаривать дальше не было никакого смысла. Я видел, что он не согласен, что слушает с какой-то обреченной покорностью, и, сославшись на неотложные дела, поспешил откланяться.
– Хоть звоните или заходите, – сказал он на прощание, тепло пожимая мне руку.
Но я не звонил и не заходил.
Почему его жизнь закончилась так нелепо? Наверное, он ходил туда, в этот публичный дом на Рубинштейна, к этой проститутке в желании обрести хоть какой-то контакт с настоящим, который мог для него возникнуть разве что из лживых, купленных, бесстыжих слов, жаркого шепота, раздвинутых ног, выбритого межножья. Какая-никакая, а все-таки связь с реальностью, с городом, в котором он жил. Может, так и надо умереть? В блудилище, как фон Зон, а не в Венеции, как Ашенбах? И только затем, чтобы стать всеобщим посмешищем, чтобы мир ни в коем случае не был благоговейно потрясен.
Похороны завершились дежурными словами скорби о самоотверженности покойного, о его преданности науке, о том, что он был большим ребенком. Потом все, удовлетворившись скорбью, направились к выходу, к проржавевшим воротам, гостеприимно распахнутым, а за ними стали прощаться, разбредаться в разные стороны.