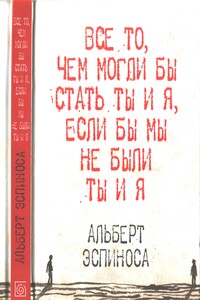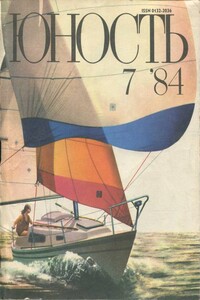Искушение Флориана | страница 3
Агнес щурилась, жмурилась, не верила, что опять ложится спать ярким утром (как не верила в это каждый, каждый день — обещая себе каждый день уж завтра-то хоть раз пожить как нормальный человек и лечь спать, себя заставить оторваться от работы — еще по ту, заднюю, вчерашнюю сторону темноты), — и, чтобы не ослепнуть от небесного прозрения, залезала в солнечную, насквозь просвечивающую пещеру с головой. Геликоптер стиральной машинки ранней соседки с нижнего этажа с грохотом шел на взлет; сквозь щели в грубых металлических латах задвижек дверей геликоптера невыносимо ярко забрызгивал в полутемное железное пузо свет; Агнес, с ужасом осознавая, что не видит зримо ни одной причины, которая позволяла бы этой гигантской ржавой дырявой нестерпимо грохочущей консервной банке держаться в воздухе и не падать, — стараясь не заглядывать в яркие, будто солнцем прожженные, дыры в железяках выпуклых громыхающих стен вокруг, шатко, хватаясь за какой-то металлолом по пути, пробиралась к кабине пилота, который, из-за красных наушников, ее не слышал, и хлопала его по плечу: черно-барашковый затылок пилота, не оборачиваясь, кричал что-то в ответ, Агнес переспрашивала (так же, криком, чтобы перекричать шум пропеллера, и двигателя, и самого пилота):
— Когда?!
И молча, увидев вдруг перед собой, под собой, везде (так что ничего на свете кроме этого было не видать да и не нужно уже видеть) ответ, обомлев от красоты приближения, несмотря за запреты и крики, харкающе-трещаще-рыгающие ивритоязыкие крики пилота, чуть отодвигала, правой рукой, железную дверцу кабины и, присев на корточки, с захватившим вдруг дух воздушным восторгом храбрости, высовывалась наружу, в ураган солнечного безумия, вдесятерне отражавшегося золотой, лиловой и сизой на теневых срезах малых, карманных гор, обвальной, обрывной, тахинно-халвистой, нежно-холмистой испещренной пещерами пустыней под ними. И беззащитный лабиринт Кумрана, с которого сняли крышку, приближался как гигантская гранка (уже давно ожидающая, что к ней с неба спустят, наконец-таки, придерживая за все четыре угла, адекватную белизну листа, чтобы запечатлеть с нее оттиск смысла), с крайних краев которой вертолетным ветром сдувало легкий желтый пустынный песок-прах, — точно так, как какой-нибудь коллега Агнес век назад нежно сдувал бы губами песок с перьевой рукописи, прежде чем перевернуть лист, — и ровно с такой же нежностью профессор Натан Эдельштайн из Иерусалимского университета четвертью часа позже, корячась на коленях и копошась, копаясь как кабан под незаконно на час выкорчеванным, вывороченным камнем в том месте кумранского scriptorium, где, по логике, должен был быть когда-то их письменный стол, бережно сдувал пыль кисточкой с непонятного, приплюснутого железного крошечного предметика, который он вертел в троеперстии, демонстрируя гостье находку: