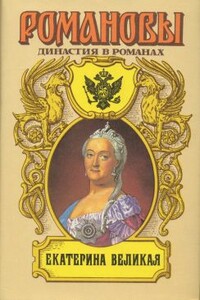Миллион | страница 32
— Так маркиз-то твой — поляк? — спросил князь.
— Наполовину. Даже меньше того. Да он все… Он и поляк, и немец, и венгерец…
— Ну… Угостил ты меня! Отблагодарил! Угостил. Спасибо… Продолжай…
И голос князя зазвучал снова грозно.
Офицер продолжал.
Бродя по улицам Вильны, он случайно набрел на домик, из которого раздавались восхитительные звуки. Кто-то играл на скрипке.
Долго простоял Брусков около этого домика, точно пригвожденный к земле. Это дьявольское наваждение было. Враг человеческий захотел его погубить и толкал в дом музыканта, науськивал офицера звать и везти его в Россию вместо француза. Так он и сделал. Познакомившись с музыкантом, который оказался бедняком, по фамилии Шмитгоф, Брусков, без труда, в один день, уговорил его ехать и назваться маркизом Морельеном.
— Я полагал, ваша светлость, — закончил Брусков, — что вы, повидая музыканта, заставите его, любопытства ради, сыграть и, наградив, отпустите восвояси… И полагал я — всем оттого только хорошее будет. Вам послушать хорошего музыканта, мне быть женату, а бедняку Шмитгофу разжиться. Не думал я, что так выйдет, что и до матушки царицы дойдет и коснется мой предерзостный обман…
Брусков замолчал. Молчанье длилось долго.
— Простите… — лепетал Брусков. — Жизнью своей готов искупить прощение…
— Жизнью? Все вы одно заладили… Что мне из твоей жизни? Что я из твоей жизни сделаю? — Князь перешел к письменному столу и собрался писать.
Он взял лист бумаги, написал несколько слов и, подписавшись с росчерком, бросил бумагу через стол на пол…
— Бери! Собирайся в дорогу.
Брусков поднял лист, глянул, и сердце екнуло в нем.
— Прочти!
Офицер прочел бумагу…
Это было предписание коменданту Шлиссельбургской крепости арестовать подателя сего и немедленно заключить в свободную камеру, отдельно от прочих, впредь до нового распоряжения.
Брусков затрясся всем телом и начал всхлипывать.
— Помилосердуйте!.. — прохрипел он, захлебываясь от рыданий. — Помилосерд…
— Слушай!.. Ты с жидом вырядил меня в дураки. Если удастся мне ныне снять с себя сие одеяние, мало мне приличествующее, то я тебя выпущу, но на глаза к себе не пущу. Если не потрафится мне, не выгорит, то сиди в Шлюссе, кайся и чулки, что ль, вяжи. Но это еще не все. Ты должен отправляться тотчас, не видавшись на с кем и никому не объясняя, за что ты наказуем. Если твой христопродавец узнает, что я его раскусил, — то тебе худо будет. Никому ни единого слова… Понял?
Брусков прохрипел что-то чуть слышно.