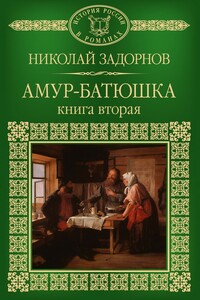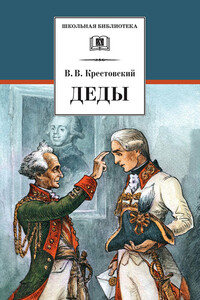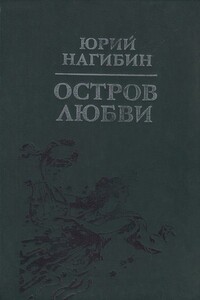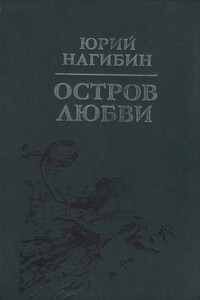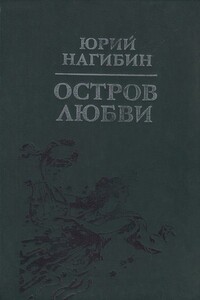Княжна Острожская | страница 108
А князь Константин опустил голову и долго сидел неподвижно. Если б его теперь увидели его враги и сподвижники, все, кто знал его на сеймах, во дворце королевском и в ратном поле — с каким бы изумлением они на него взглянули. Это был не могучий, грозный и гордый вельможа литовский, «великий князь», как звали его в народе. Это был не муж совета с честным, горячим и смелым словом, не сановник, всю жизнь свою не унизившийся до лести, в глаза прямо и резко говоривший королю горькую правду; не бесстрашный военачальник — герой, пример которого возбуждал мужество и отвагу в воинах. Это был жалкий, как-то в один миг опустившийся старик, подавленный страшным горем и сознающий свое бессилие…
Всякий, даже самый посторонний и равнодушный человек, взглянув на него теперь, почувствовал бы к нему сожаление. Не могло быть для него большего несчастия как то, о котором возвестила ему княгиня. Она говорит — Януш и Константин еще дети… Так что же, что дети! — тем хуже, тем хуже, что с этих лет они уже так испорчены, способны на такие мысли… И откуда берется все это? Опять тот же проклятый иезуит?! Но ведь ничего общего не могло быть между ними — он никогда не показывался на эту половину замка, а дети не ходили к Беате. Разумеется, они где-нибудь могли встречаться — мальчики резвы, бегают всюду, нельзя же следить по пятам за ними… Но в таком случае это были тайные сношения… И если ни отец, ни мать, никто из приближенных и приставленных к детям до сих пор ничего не знал об этих сношениях и разговорах, так, значит, мальчики скрывались, прятались… Они должны были прийти к отцу с матерью, ну, наконец, к дядькам и мамкам, что ли, и сказать, что этот монах заговаривает, учит совсем не тому, чему учат родители…
— Боже мой! За что мне такое наказание? — думал князь Константин, — разве я не люблю детей своих, разве я не забочусь об их благе, разве не старался я постоянно внушать им добрые правила, развивать в них благочестие. Разве они видели во мне или в жене дурной пример? — И вспомнились ему те тихие, вечерние часы, когда в присутствии мальчиков, Гальшка читала вслух Евангелие, или Жития Святых, или другие выбранные им книги. Он постоянно прерывал Гальшку и делал разъяснения, и постоянно говорил, приноравливаясь к детскому пониманию. Он всегда и неустанно следил за собою, чтоб при детях не сказать лишнего слова, чтоб не дать им возможности превратно истолковать смысл и истинное значение слов своих. Он был вполне уверен, что и княгиня поступала точно так же… да и может ли она что-нибудь сказать или сделать такое, что было бы для детей дурным примером! О! он не хочет величаться и фарисействовать — он знает и чувствует, что во многом грешен перед Богом, грешен и гневом, и гордостью, и ропотом… Но все же он всю жизнь свою боролся с собою и старался поступать так, чтоб уважать себя и по праву требовать от людей к себе уважения. Никто не может указать детям такой его поступок, за который им краснеть пришлось бы. В этом отношении чиста его совесть… За что же, за что ему такое наказание, за что через детей Бог хочет покарать его?!