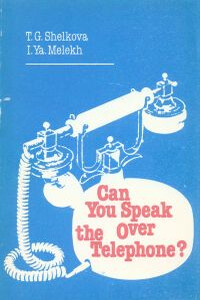Ищем имя | страница 16
Многие неофициальные (внутрисемейные, уличные, школьные) имена совсем не связаны с официальными — бесчисленные прозвища, клички. Они весьма пестры и подчас «сиюминутны». Среди них и слова, выговариваемые самим ребенком необычно для взрослых.
Еще в XV—XVI веках установилась и прочно держалась обязательная норма: именовать всех нижестоящих на социальной лестнице не полным именем, а с привязкой суффикса ка, выражавшего презрительность. Даже крупнейший боярин, перед которым трепетали прочие бояре, подписывал свое обращение к царю «холоп твой Васька». Для народных масс это ка было всеобщим до середины XIX века, в отношении же угнетенных народов Поволжья и Сибири официальные документы царской России удерживали унизительное ка до конца столетия.
С гневом и болью писал В. Г. Белинский в знаменитом письме к Н. В. Гоголю, запрещенном для печати и тайно распространенном во множестве: «Россия представляет собой ужасное зрелище страны, где люди сами себя называют не именами, а кличками: Ваньками, Васьками, Стешками, Палашками».
С удивительной чуткостью выразил позже социальное противопоставление форм личных имен Лев Толстой, назвав героиню романа «Воскресение» Катюшей: «Так между двух влияний из девочки, когда она выросла, вышла полугорничная, полувоспитанница. Ее и звали так средним именем — не Катька и не Катенька, а Катюша».
Непростительно, что пишущие о русском языке то и дело именуют ка суффиксом «субъективной оценки». Субъективной! Это проникло и в учебники. Ни Белинский, ни Лев Толстой не были марксистами, но народность, совершенное понимание русского языка и безупречная честность продиктовали им подлинную правду. Безусловно, уничижительное ка служило не эмоциональной, не индивидуальной, а социальной оценкой. Утверждать обратное — значит повторять ложь с чужого голоса.
Что греха таить, в начале 20‑х годов комсомольцы тоже называли друг друга Володька, Колька, Катька, Нюрка, но они хотели подчеркнуто ниспровергнуть прежний этикет. История доказывает, что это не случайно: в 1789 году парижская беднота, восстав, заполучила кличку «санкюлоты», которую с ненавистью бросили ей аристократы («санкюлот» — буквально «без штанов»), а она стала самоназванием революционеров-якобинцев.
Наше ка исчезло скоро, в нем отпала надобность: с классами-угнетателями покончили. В самом ка не было заложено ничего порочного. У болгар, например, этот суффикс начисто свободен от выражения презрительности, напротив, образует гордые имена Цветанка, Славянка, Живка, Здравка. Значение всегда общественно, исторически обусловлено.