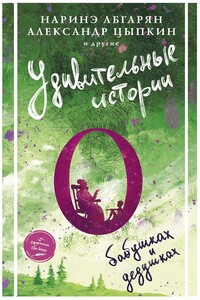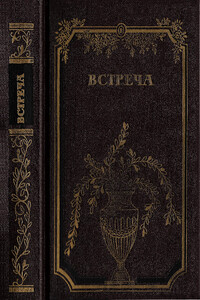Первый миг свободы | страница 27
Какая светлая ночь. Не упомню второй такой светлой ночи. Ну, прыгаю. Я совершенно отчетливо вижу, куда прыгать. Каждый камешек можно различить. Тень катящихся вагонов, примерно в метр шириной, скользит вдоль полотна. Как резки тени в лунном свете! Я спрыгиваю в эту полосу тени и бросаюсь наземь. Поезд идет так медленно, что все эти акробатические трюки из приключенческих фильмов ни к чему. Я лежу плашмя, прильнув к земле. Я цел и невредим и мог бы тотчас же вскочить и бежать и бежать. Но на залитой лунным светом равнине меня скорее могут заметить с поезда. И я продолжаю лежать у самых рельсов, в тени поезда, в темном укрытии, где меня не видно даже из окон вагонов. Подожду, пока не скроется из глаз последний вагон. Я на диво спокоен, у меня все обдумано и все идет по плану, как я и предвидел.
Но что это — неужели задуманное мною перестает сбываться? Два или три вагона проехали мимо. В ушах стоит грохот колес. Но, кажется, он стал тише, неужели колеса крутятся медленнее? Я еще не хочу признаться себе в этом, не хочу верить, но в глубине души уже понимаю: поезд, который и так еле тащился, еще больше замедляет ход. Скорей, проклятый поезд, скорей! Ну же, прибавь хоть чуточку скорости! Сгинь, скройся! Я приникаю к земле, хочу слиться с тенью, я уже ничего не вижу, только шум поезда у меня в ушах… Визг тормозов перекрывает грохот колес, грохот переходит в неровное постукивание и затихает — поезд стал. Он стоит! Что теперь будет? Сигнал тревоги вспарывает внезапно наступившую тишину. Раздается команда. Я поднимаю голову, окидываю взглядом вагоны. Из окон высунулись солдаты, машут руками, а другие уже выскакивают из вагонов с автоматами наперевес. Бросаются врассыпную. Один бежит прямо на меня. Это Бухмайр. Привет, ефрейтор! Сам же виноват, что я причинил тебе столько хлопот: где ты был в тот миг, когда тебе надлежало стеною стать между мной и моим единственным шансом на спасение? Ну, чего тебя так перекосило от бешенства, — ведь все кончилось не так уж плохо — для тебя, разумеется: ты ведь не попадешь под трибунал за то, что покинул пост, выйдешь из войны целехоньким, раз уж сумел так устроиться, что дуло твоего карабина нацелено только на безоружных вроде меня; в России все было бы совсем по-другому, и ты рад-радешенек, — сам же мне говорил, — что остался здесь, в прекрасной Франции, и можешь спокойно постреливать себе оккупантскими пулями, до поры до времени, конечно, — этот твой покой ненадолго, теперь это уже каждому ясно. И нечего тебе так яриться, не можешь же ты, в самом деле, винить меня в том, что я ухватился за свой единственный шанс. Право на побег — исконное право всякого узника. Твое дело этому воспрепятствовать, но ставить это в вину — ты не вправе. Вот видишь, я уже поднимаюсь. Чего ж ты орешь: «Руки вверх!» Пожалуйста, я и руки подыму. Я сдаюсь. Признаю, прыжок мой был напрасен. Будем, стало быть, продолжать вместе наше с тобой путешествие до самого конца. Да ты что это, зачем вскидываешь карабин? На что это тебе? А, понимаю, на тебя смотрят! Твои товарищи и все офицеры смотрят на тебя, и нужно разыграть маленький спектакль, чтобы они позабыли о том, что ты нарушил устав; тебе нужно изобразить ярость: ведь этот выродок-коммунист так коварно подвел честного немца, обманул его доверие, его благородную веру в людей! Право, я тебя понимаю, ты всего только разнесчастная свинья. Да, из нас двоих, ефрейтор Бухмайр, разнесчастная свинья — это именно ты, а не я, хоть ты и думаешь иначе.