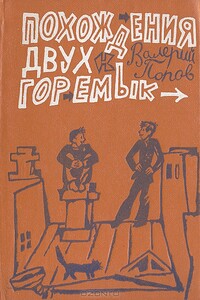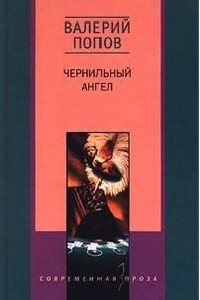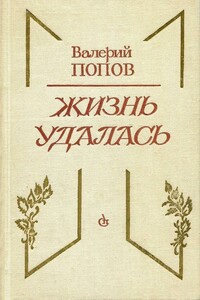Запомните нас такими | страница 165
Как несчастен человек, который живет просто внутри куба или параллелепипеда, никак не связанный с ними, ничего не придумывая в них!
Затем шла таинственность дворов — первого, светлого, и глухого второго, темного и тесного, покрытого нежным темно-зеленым бархатом, как театральная ложа. Затем — чудо подвалов, безумие крыш, высоты, беспредельности открывшегося пространства и постепенное освоение его: этот зеленый купол вдали — свой, уютный, а на ту ржавую пику, торчащую над крышами, лучше не смотреть.
Дизайн окружающей жизни — это то, что после литературы занимало меня более всего. Я бы даже сказал больше — созданию дизайна, уюта жизни и посвящена вся моя литература.
Объем той квартиры и окружающего ее пространства был, конечно же, самый волшебный, самый таинственный, самый свободный. Стандартная городская жизнь была еще не налажена после войны и блокады, зато была свобода, огромные пустые пространства для фантазии и творчества.
Помню, как в конце своей длинной узкой комнаты я, волнуясь и трепеща, устраивал тир — композиции из игрушек, грузовиков, медвежат, домиков и кубиков. И затем, отойдя к окну, кидал в них маленьким красно-синим мячиком, разрушая эти композиции и строя новые. За этим странным занятием я проводил часы. Бабушка, которой был поручен досмотр за мной, с одной стороны, радовалась моей постоянной занятости и задумчивости, с другой— это пугало ее: нормальный ли?
Поэтому большой трагедией, которая случилась со мной уже в зрелом вполне возрасте, был наш переезд на новую квартиру, в район новостроек, в царство скуки, однообразной определенности, рационального и унылого стандарта. Чем можно было заполнить эти аккуратные, убогие комнатки? Нечем было их заполнить! Сам их объем отрицал что-то нестандартное, небывалое — только лишь обычное, только лишь как у всех! Я почувствовал, что скоро тут умру. Сюда не удалось взять ни ту батарею-лошадь, возле которой я не только мечтал, но уже и умудрился сорвать первый школьный поцелуй. Сюда было не взять те окна, высокие, полукруглые наверху, с витыми узорами балкончиков и витражами стекол на той стороне Саперного переулка. Пропала жизнь! Если бы я так не прирос душой к старинному Саперному переулку!
А то ведь прирос — и душа осталась там, а здесь — лишь жалкое, стандартное, как у всех, существование! Мы все же привезли сюда старый, еще казанский наш стол. На этот стол меня положили перепеленать, принеся из родильного дома. О, как я помню тот стол — с крышкой радостно-воскового цвета, слегка потрескавшейся, с ножками-тумбами, навинчивающимися широкой, просторной деревянной резьбой. Теперь он оказался на окраинной свалке — он, участник и даже герой самых важных событий нашей жизни. Из Казани его перетащили, а уж тут, в самом городе, не могли оставить его, выкинули — загромождал комнату! Помню, с каким отчаянием я уходил со свалки, боясь обернуться, увидеть его задранные на куче дряни старинные, толстые ноги, вопиющие: «За что? Что я вам сделал плохого?» Все-таки нельзя, наверное, быть связанным с мебелью так душевно? Или — можно? Или даже — нужно?