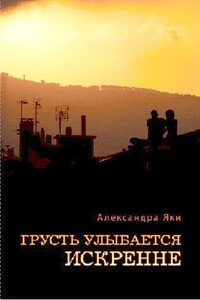Созерцатель | страница 30
Винт день от дня преображался, у него появились денежки, он прилип к кооперативной торговле фруктами, и благодаря какой-то своей неустроенности и шкодливости в облике своем привлекал людей и недоверчивых, и простоватых. И завел себе новый серый костюм и светлый попсовый плащик — жара стояла гнетущая, а он мечтал о недолгом похолодании, чтоб пройтись в плаще — и шляпу с крохотным сутенерским перышком на тулье, и голубоватые ботинки. Раза два в неделю он пропадал из дома и возвращался, обмаслясь удовольствием, как мартовский кот. Он крутил любовь, как шарманку, и все существо его, обостренное недугом, ловило, будто вселенское ухо, музыку высших, горних сфер блаженства. Баховские фуги можно исполнять и на балалайке, а красочное богатство инструментовки — это, извините, излишество. Ему становились безразличны и приколы сожителей, и проблемы перестройки в стране, и глобальные недоразумения войны и мира.
Арбуз, напротив, мрачнел незаметно, неостановимо. Задумывался, смотрел отсутствующе — мешала какая-то мысль. Как части разных головоломок, никак она не хотела складываться во что-то понятное, окончательное, убедительное, чтоб вместо назойливого толкания мелочей разом выстроилась, легла ясная дорога, непременно освещаемая нежарким солнцем, чтоб идти по ней, идти... Он пытался подручными логическими рассуждениями разобраться в хаосе, все более охватывающем каждую отдельную мысль и целые народы, где уж ни правых, ни виноватых, ни левых, кажется, не стало, а было единое серое месиво, и только редкие пузыри на поверхности этого месива лопались, подтверждая, что кто-то еще жив и дышит. В отличие от Гаутамы, читавшего какие-то свои оккультные требники, которыми отгораживался от мелочей жизни, в отличие от Дювалье, теперь читавшего запоем новейшие публикации об эпохе великого испуга и эпохе великого паралича мысли, в отличие от Сударыни, читавшей письма Герцена к самому себе и дневниковые записи возлюбленного, — Арбуз ничего не читал. Как и Винт, не читавший из-за скуки написанного. Арбуза раздражало всякое печатное слово, кроме вывесок магазинов, он испытывал раздражение и злобу от вселенского словоблудия, ни от чего не уводящего, ни к чему не приводящего, не способного ни на какое деяние добра. Для себя он давно решил, что в этой стране и в этом народе и в это время немыслимо никакое пробуждение, — болезнь дошла до молекулярного уровня, проникла в атомарные сферы и отовсюду, — дома, в муниципальном транспорте, в местах невеселых развлечений являла свой обезображенный угасающий облик. Арбузу было лестно сознавать, ощущать и лелеять скорбное сочувствие — разочарование, и он уходил в это разочарование, как уходят в любовь или в ненависть, чьи питательные соки если и не дают плодов, то могут подвигнуть могучие силы скорби, — то легким ласковым эфиром, то резким внезапным порывом эта скорбь — конечно же, мировая скорбь всех лишних людей, потому что, по мнению Арбуза, именно люди и были лишними на земле — витала над этой жизнью, не исчезая окончательно и не властвуя полностью, хронический общественный насморк, приводящий к гнусавости. Арбуз видел скорбь в зеркале, когда брился; в ступенях лестницы, когда выходил на улицу; в унылых фасадах домов, мимо которых проходили люди, глядя скорбными глазами в скорбную пустоту. Потому Арбуз несколько воспрянул, когда на кофейных вечерах появился террорист, он был существом другой масти, которая, даже и не оставив после себя какой-либо заметной генерации, все-таки допускала догадываться, что есть кто-то, дышащий другим воздухом. И если Винт неспешно, прогулочным шагом входил в будущее — на какой остаток дней и зачем? — семейную жизнь, то Арбуз, сочащийся безмолвной и тем более выразительной скорбью, медленно, как заброшенный и забытый воздушный шарик, выцветший, мятый, сморщенный в боках, отлетал в сторону...