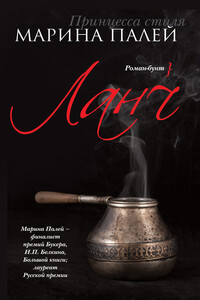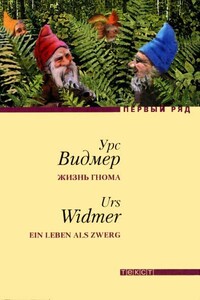Созерцатель | страница 24
— А вы все еще надеетесь на чудо? — медленно, внятно и с непривычной четкостью говорил Гаутама, едва покачиваясь в гамаке у раскрытого окна; предгрозовая жара нагнеталась, как замысел преступления.
Депутат, кажется, поклявшийся себе «дойти до самой сути», с удовольствием вслушивался в скрываемые смыслы и уверял себя, что еще одно, последнее усилие, и он все поймет, хотя — он подозревал — на самом деле он только-только перестал что-либо понимать.
— Вы все еще надеетесь на чудо? — повторил Гаутама, как бы пробуя губами самую истину, гербовую и стыдливо скрываемую: жалкая нация, нация импотентов, сверху донизу все импотенты.
Депутат удивился: это звучало грубо и даже примитивно в устах такого возвышенного, насквозь просветленного юноши, каким был Гаутама.
— Да, — соглашался белокурый жрец самотворческой веры, — грубо, но необходимо. Этот невежественный народ в состоянии понять лишь самые примитивные вещи, самые откровенные стороны бытия. Голодный паек культуры, на котором большинство сидело десятилетиями, привел к хронической духовной дистрофии. И с этим ничего не поделаешь. — Гаутама, по-видимому, искренне сожалел. — И если сейчас из силосных ям истории вы извлекаете полусгнившие корма, это не на пользу. Многие отравятся, да и сейчас — с души воротит.
— Вы недооценили упругую силу сопротивления народа, сопротивления террору и застою, сопротивления мукам и боли, и сопротивления последующей стагнации.
— Живые умирают дольше мертвых, — сказал Гаутама, — но и те, и другие не замечают этого.
Ах, как все это говорилось спокойно, беззлобно и благостно, и Винт, когда доводилось ему присутствовать при беседах столь выдающихся умов, как Гаутама, вобравший мудрость из книг, будто пчела, впитавшая сладость нектара с пыльных придорожных цветов, и как депутат, этот серенький советский инженер со вспухшим, как флюс, самомнением, вознесенный законами идиотического социума из общественного небытия в общественную суетность, фальсификацию державной озабоченности, — Винт плескался в этих разговорах, как в чистом пруду, где в солнечной пронзенности вода и взвешенные мусоринки обращаются в блестки карнавального праздника.
Винт почти ничего не понимал в этих разговорах, хотя слова были понятны, но плетение их чудно — зачем? украсить тусклую скуку рутины? Но неутоленная жажда радости и покоя, несовместимых в одном — любом — человеке, заставляла Винта, обозного рядового — и во многом инвалида — великой армии нищей духом братии, вслушиваться, пытаясь протиснуться в смыслы, — нечаянное вторжение в чужой, пропитанный кислым запахом чулан. Винт внешне изменился — одет он был непритязательно и добротно, — общий каптенармус Дювалье попечительствовал гардеробу сожителей и угадывал свойственный каждому прикид и концепт, мостик перехода извнутри снаружу и обратно. Винта испытывали в разных трудах. Иногда — тряхнуть стариной — он отправлялся исполнить три-четыре ходки на пригородных поездах, и в дополнение к искривленным ногам он усвоил отвратительный гнусавый распевный тон, коим речитативил невнятные тексты, — то ли на судьбу плакался, то ли на прощение раскидывался. Иногда его посылали — по найму — торговать красочными значками, иногда он подряжался в госторговлю. Он не переламывался в трудах, но — зная, что отдохнет духом в кофейных вечерах тихого дома — вплывал в работу, как в боковую протоку реки, так или иначе выносящей на какой-то неоглядный простор, и главное, не догадываясь и не подозревая, Винт жил в ожидании любви. Сильное ожидание непременно к чему-то приводит, и однажды она не помедлила явлением.