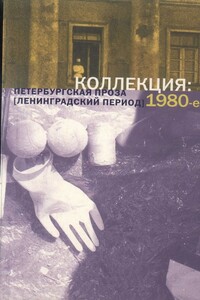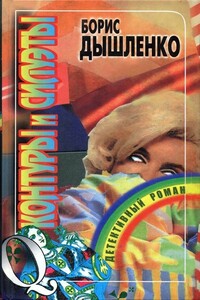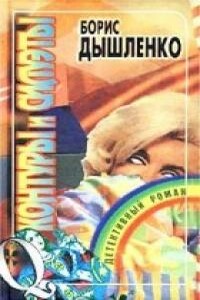Порог | страница 17
На девятый день после кончины брата, печально совпавший с днем моего рожденья, я отстоял по Юре панихиду в Андреевском (нашем) соборе, а в день его смерти... а в день его смерти, еще не отойдя от шока, я отвечал по телефону на вопросы Виктора Кривулина, писавшего некролог для московской газеты «Коммерсантъ». Учитывая мое состояние в тот момент, он, конечно, не мог быть слишком настойчивым в уточнении подробностей, относящихся к некоторым не известным ему Юриным работам, а к другим источникам ему, вероятно, некогда было обращаться ввиду вполне понятной в этом случае поспешности, поэтому я не виню его в том, что он допустил ряд неточностей — повторяю: дело было спешное, — но считаю необходимым исправить его ошибки.
Не буду останавливаться на биографических неточностях, но такое, например, утверждение, что декорации к спектаклю «Жаворонок» по пьесе Жана Ануя были выполнены «в почти беспредметной манере», полностью опровергают Юрин замысел, строившийся на использовании в качестве основного изобразительного материала средневековых книжных миниатюр, — что может быть конкретней? И это был последний, но отнюдь не единственный Юрин спектакль, и хотя он имел большой успех у ленинградской театральной публики, но все же без «ажиотажа на грани скандала», что вполне устраивало Юру. Брат предпочитал сосредоточенное внимание культурного зрителя нездоровому и поверхностному любопытству.
Режиссер, ставивший спектакль, тогда молодой и полный энтузиазма Анатолий Кириллов, готовил его как внеплановую работу с такими же молодыми энтузиастами-актерами. Юра предложил Толе Кириллову свою идею. Это должна была быть симультанная декорация, собирающаяся по ходу спектакля из отдельных, вывозимых на фурах декораций для каждого следующего действия — Древо Фей, Реймс, Руан и так далее — и только судейский помост и столб для казни как атрибуты суда оставались постоянным фоном всего спектакля. Постепенно сцена заполнялась так, что все это складывалось в единую завершающую, цельную картину. Как в отдельных сценических картинах, так и в целом все это пластически и исторически соответствовало миниатюрам «Больших Французских Хроник», нарисованным с самой скрупулезной точностью средневековым художником. Разумеется, такое оформление исключало всякую реалистическую «живость» и «патину», вроде замшелых, сочащихся влагой камней, закопченных сводов, ржавых цепей и прочего реквизита, но и сама пьеса Ануя не претендовала ни на «патину», ни на реализм.