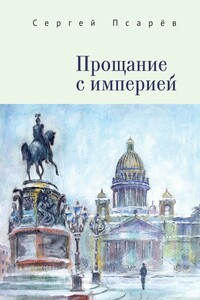Время сержанта Николаева | страница 20
Все понимали, что он знает куда больше о каждом, чем говорит.
— Вольно! — молвил командир.
— Вольно! — повторил начальник штаба.
Мороз был неподвижный, уши мерзли и горели. У Николаева ныло правое, отмороженное прошлой, почти курсантской, беспощадной зимой. Начался прием докладов от командиров рот о наличии в строю и проведении предвыходного и выходного дней. Первым пошел командир их роты, майор Синицын, любимый офицер Николаева, которого он помнил еще не столь респектабельным капитаном. Синицын ступал бережно на утрамбованный снег и двигался без подобострастия, как к равным. Командир выслушал его и принял с первого захода. А было время (и Николаев его застал), когда Синицыну, еще капитану, приходилось не раз и не два повторять подход, то, что сейчас пришлось сделать двум свежеиспеченным ротным — старшему лейтенанту Архипову и капитану Орлу. Они пыжились, шли молодцевато, вскидывая носки сапог по-кремлевски высоко, как будто под ними была брусчатка, а не лед, но командира что-то раздражало в поведении их рот, и офицеры возвращались наводить ужас и порядок. Солдат уже не веселил офицерский театр, потому что все привыкли к парадоксам иерархии. Последним отправился командир “арабов”, вечный старший лейтенант Балыкин, “афганец”, медведь, матерщинник и справедливая гроза своих чумазых водителей. Он шел, как жил, с усмешкой, с далеко отодвинутой от скособоченной шапки рукой в закатанной перчатке, что едва напоминало уставное отдание визуальной чести, шел франтовато, на пятках, из-под которых летели брызги снега; фалды его шинели были сшиты, голова, как у африканской большой птицы, выпячивалась вперед при каждом покачивании. Все знали, что его Ком никогда не вернет. Балыкин в Афганистане получил два боевых ордена, а здесь, как поговаривали, за два года — десяток взысканий. Ком, недовольно переминаясь на месте и по привычке вскидывая плечами, словно с них слетали бретельки, что-то внушал подошедшим командирам. Остальная тысяча шинелей продолжала стойко дрогнуть.
Николаев боковым взглядом стал наблюдать за своей старой знакомой — вороной. Она, как всегда, была похожа на гоголевский нелепый персонаж в эдаком затрапезном, обшарпанном, черно-сером фраке и прыгала поодаль от своих вожделенных мерзлых зеркал по кромке плаца. Впервые Николаев увидел ее прошлой весной, когда обнажился мусор и в природе на мусоре появилось много их брата, нахального, грузного и грязного. Некая ворона до безумия полюбила огромное зеркало, тогда единственное на плацу, предназначенное для самонаблюдения во время строевой подготовки. Она прилетала к нему и билась об него, о свое дурацкое отражение. То ли ворона была нарциссом или антинарциссом, то ли у ворон есть свое зазывное Зазеркалье. Николаев испугался за ее судьбу, так как ворона истязала себя до смерти, с самоотречением буддийского монаха, и отгонял ее прочь. Но летом на плацу рядышком поставили еще несколько зеркал, и бедняжка-ворона совсем растерялась. Она металась между ними, сбитая с толку, ее страдания усилились пропорционально числу зеркал. Кажется, эта философствующая ворона чувствовала себя в самой середине мирового разлома. Николаеву она была симпатична, и слежка за ней была поучительным времяпрепровождением. “Не дай ей бог сойти с ума”, — говорил он о ней, а сам как раз и желал вороньего сумасшествия, как чего-то крайне эксцентрического. Теперь она была особенно расстроена, прыгала и хватала воздух молчащим клювом, она боялась подлететь к зеркалам вплотную: около них стояли подразделения военных людей и оркестрик с блестящими трубами, от людей можно было ожидать погони, свиста, улюлюканий и камней по крыльям. Глупая серая ворона! Николаев уважал непонятные, долгие, дикие, человеческие муки.