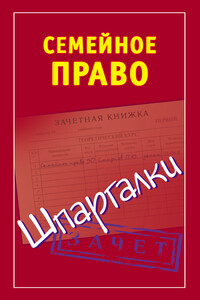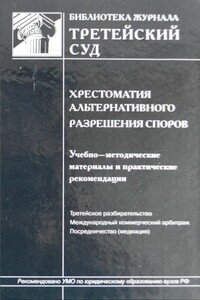Лекции по общему государственному праву | страница 47
Переходя далее от возникновения первых государств к современным государствам, нельзя не видеть, что по отношению к ним договорная теория явно не выдерживает критики. В самом деле — современные государства ведь огромные союзы, заключающие десятки и сотни миллионов людей — людей самых разнообразных по своему умственному развитию, культуре, нравам. Возможно ли представить себе даже в воображении, что сотни миллионов людей, составляющих, напр., Британскую империю, действительно, в прямой или косвенной форме заключили договор об основании и дальнейшем существовании этого государства? Очевидно, это совершенно немыслимо. На это, может быть, скажут: да, конечно, все эти миллионы не могут заключить одного договора, но возможно представить себе, что люди входят путем договора в более мелкие союзы, а эти мелкие общества также путем договора в крупные союзы и, наконец, образуют государство. Это, конечно, логически мыслимо, но также не соответствует действительности. Мы видим, что современные государства в большинстве вовсе не являются федерацией более мелких ячеек; государственная власть господствует непосредственно над подданными.
Наконец, самая природа государственной власти как власти территориальной находится в противоречии с идеей договора. Государство есть союз территориальный, в него входят все лица, находящиеся на известной территории, независимо от того, желают они этого или не желают, и все эти лица обязаны подчиняться государственной власти. Предположим, что государство образуется первоначально путем договора. Те лица, которые впоследствии попадают на его территорию, ведь не участвовали в договоре, но, несмотря на это, они подчиняются государственной власти, как и участники договора. "Отцы-пилигримы" Новой Англии могли заключить договор об основании государства, но созданной им власти должны были подчиняться и лица, в договоре не принимавшие участия: их дети, позднейшие поселенцы, туземцы; следовательно, истинным основанием этой власти был не договор.
Нельзя не отметить здесь, что возражения, которые можно сделать против договорной теории с точки зрения исторической действительности, не были совершенно не известны представителям этой теории, в особенности позднейшим, напр., Руссо и Канту. Они сознавали невозможность обосновать эту теорию на фактах и потому, собственно, у них она имеет другой смысл, чем у ранних представителей школы естественного права. Так, Руссо вовсе не имеет в виду дать историческое объяснение происхождения государства, напротив, он сам определяет свою задачу так: "Человек рожден свободным, — говорит он, — но повсюду находится в цепях. Как это произошло?.. Я этого не знаю (je l'ignore), но каким образом положение можно сделать правомерным, этот вопрос я, кажется, могу разрешить — это я знаю и об этом я буду говорить в своем сочинении". Таким образом, договор является не реальным историческим основанием государственной власти, а скорее идеалом, к которому нужно стремиться, по которому нужно перестроить государство. Точно так же у Канта договор не есть реальный исторический факт, а регулятивная идея, согласно которой нужно оценивать государственную жизнь. Таким образом, у самых гениальных представителей договорной теории она, в сущности, не является разрешением занимающего нас вопроса; она говорит о том, что должно быть положено в основу государственной власти, но не о том, какая причина создала и поддерживает существующие государства.