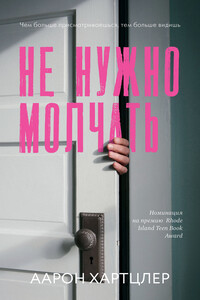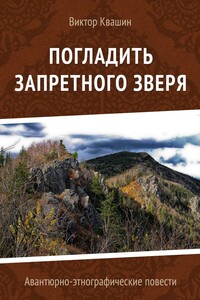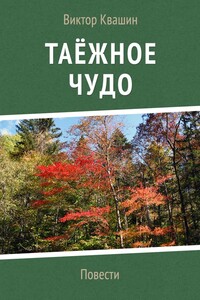Огоньки на той стороне | страница 4
А так жить можно. Правда и то, что поместили Голобородько в отделение для тихих. Смирительную рубаху не надевали, и изолятора не повидал. Там, где буйные, там, говорили, дают прикурить… Там, возможно, и были Наполеоны. Например, говорили, там один дядя убил свою жену от ревности и, расчленив, пропустил эту жену через мясорубку. Чтобы замести следы. Самое интересное, на чем его взяли. Все вроде учел. Кости вымачивал в кислоте, затем дробил и вместе с фаршем спускал в унитаз, чтобы уж совсем бесследно. Но унитаз-то при этом непрерывно гудел. Соседи нижние и засекли. Это действительно: расскажешь — не поверят. Но все же и этот случай, представлялось Григорию Ивановичу, подвластен цепи нормальных рассуждений. Смотри: от ревности убить всякий может, так? Так. И если у человека все дома — он после убийства постарается следы замести, так? Так. И будучи человеком трезвого ума, он по уму и начнет действовать, верно? А ты ж не скажешь, что пропустить труп через мясорубку — глупо в плане заметания следов. Куда умнее. Ну а уже после мясорубки человек сходит с ума — а как иначе? Это неизбежно: не котлеты все же готовил — жену родную прокручивал. Чего тут не понять? Нет, и у буйных не бывает яичница всмятку; и у них все по логике вещей; а логику Григорий Иванович уважал, недаром был он механик и в чудеса не верил, а коль движок забарахлил — в нем и искал поломку.
Все путем. Утром, чин-чинарем, отделение обносят ведром с лекарством, вся палата, как положено, жахнет по полной кружке; чего там в ведре — одни врачи знают, на вкус дрянь — нет слов. Но врачи говорят — надо; а они знают, что говорят. Наука тебе плохого не пожелает. Хотя приятного мало, конечно. От инсулина трясет. Электрошок — вроде контузии. Приятного мало; зато полезно. Чтобы жизнь медом не казалась. Потому что нечего народ распускать.
Все путем; только вот санитаров Голобородько боялся несказанно. «Лечиться, лечиться и лечиться, — как говорил ваш Ленин», — вместо приветствия выкрикивал всякий раз санитар Прохор, входя утром в палату и прицеливаясь, кого сегодня огреть для порядка. Шутник; из раскулаченных, а шутник. Он издевался над самым дорогим — и безнаказанно: кто с ним свяжется, когда прошел он Сибирь, потом штрафную роту, а санитары — на вес золота?
А однажды Григорий Иванович надерзил санитарам, попросив разрешения закрыть хотя бы днем форточки: дверей-то здесь нет, чтобы всё просматривалось, а зима все-таки, сквозняк. Он надерзил, и они, конечно, покарали его специальным уколом, от которого двое суток жег его тело в каждой точке адский огонь. От огня этого не было спасу: хитрый укол склеил все члены так, что даже схватиться за болящее место не получалось. Но злее во сто крат проклятая сера жгла душу, узнавшую за двое суток страх смертной агонии и впервые измерившую неизмеримую глубину, потребную для помещения всего запаса тоски в человеке. С той поры он санитарам не перечил и укол получил еще только один раз, когда наказали всю палату за Анохина, сбежавшего на волю, в лес, где вопрос о кислороде, видимо, для него не стоял. Настырный мужик, турецкий его бог.