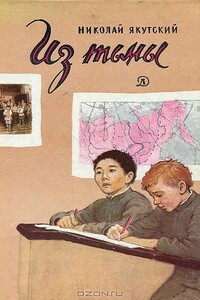Лесные качели | страница 33
— Да, жара у вас особенная, — усмехнулся Егоров. — У вас тут все особенное.
Но такси выскочило на набережную, и у Егорова замер дух от безмятежного величия этого светлого простора. Катя знала, что делала, когда завещала ему этот город. Он мечтал о будущем, он рвался к новой неведомой жизни, а был опрокинут далеко вспять. Здесь жили призраки, такие же вечные, холодные, иллюзорные, как эта белая ночь, которая вызвала их к жизни.
Соседи остались прежние. Муж, ярко-красный мужик, с невинными голубыми глазенками и алкогольной предупредительностью в каждом движении, и жена, крашеная блондинка, вкрадчивая, цепкая и хитрая, встретили его с профессиональной любезностью потомственных торгашей. Из кухни в клубах чада томно выплыла их дочь, красавица-булка, с лицом белым, как блин, и с презрительной, брезгливой неприступностью во взоре. Она гордо проплыла мимо и даже не поздоровалась.
— Милости просим, милости просим, — ласково пропела жена. — На побывочку или как? А, насовсем? — и она приторно улыбнулась.
— Это дело, того… Неплохо отметить, — подхватил муж, прищелкнул языком и подмигнул заговорщически.
Егоров с трудом выдавил подходящую улыбочку и тут же содрогнулся от ее гнусности, застыдился и смешался. Любой быт всегда удручал его, а эта плотоядная живучесть вызывала отвращение. Ему сразу же стало душно и тошно, будто он запутался в паутине.
В комнате стоял характерный спертый дух давно нежилого помещения. Светящийся воздух белой ночи проникал сюда через два окна, и в этом неверном свете комната выглядела просто зловеще. Все предметы были закрыты газетами и напоминали своими силуэтами каких-то мертвых животных. Посреди комнаты на столе лежало что-то большое, покрытое простыней. Егоров щелкнул выключателем, лампочка взорвалась ослепительно яркой вспышкой и потухла. Он не сразу понял, что в доме за это время сменилось напряжение. Он думал, что надо сходить за лампочкой к соседям, но не шел…
Слева возле дверей поблескивал тусклым зеркалом старинный умывальник. Катя называла его «мойдодыром» и ни за что не хотела с ним расстаться, несмотря на его явную нелепость и нецелесообразность. Катя собиралась рожать, и Егоров первый и последний раз в жизни проявлял некоторое рвение в организации очага, но рвение это только раздражало Катю и мешало ее собственному рвению, которое было, по мнению Егорова, начисто лишено всякого здравого смысла.
Уже тогда он проявлял явные наклонности старого холостяка и ненавидел быт. Семейные обеды, чаепития, домино, тряпки и пеленки нагоняли на него смертельную тоску. Пищу он привык «принимать» в столовой и органически не выносил процесса ее приготовления, болтовни вокруг нее, переживания пищеварения. Он находил все это просто неприличным.