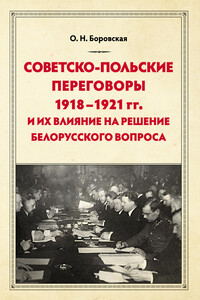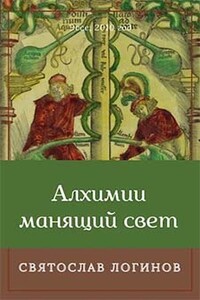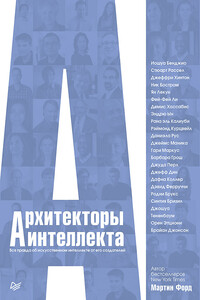Проблема идеального. Субъективная реальность | страница 30
Справедливо подчеркивая социальную сущность такого рода «идей» как норм культуры, Э. В. Ильенков ограничивал категорию идеального исключительно теми духовными явлениями, которые обладают достоинством всеобщности и необходимости [91, с. 131, 132, 137, 140 и др ]. По его мнению, определение категории идеального несовместимо с чувственно-конкретным, единичным и случайным, в силу чего «бессмысленно применять это определение к сугубо индивидуальным состояниям психики отдельного лица в данный момент» [91, с. 140].
Отсюда следует, что мои чувственные образы, моя «мимолетная» мысль о чем-либо (и по существу всякое сознательное переживание, ибо оно соткано из подобных «мимолетностей») не могут определяться посредством категории идеального. Но тогда они должны быть названы материальными. Кроме того, ведь «мимолетное» может быть гениальным поэтическим или теоретическим озарением и обрести «вечность». История знает множество таких «звездных мгновений человечества», о которых писал Стефан Цвейг [276].
Отрицая правомерность определения чувственных образов и прочих «мимолетностей» как идеальных, Э. В. Ильенков нигде прямо не называл их материальными. Такова первая теоретическая неувязка. Она проистекает из того, что Э. В. Ильенков не принимал исходного определения идеального как субъективной реальности, не проводил с самого начала своих рассуждений четкого логического противопоставления категорий материального и идеального. Разумеется, он неоднократно говорил о таком противопоставлении, но нигде не фиксировал, что противопоставление идеального материальному есть противопоставление идеального объективной реальности. Идеальное сразу определялось «как всеобщая форма и закон существования и изменения многообразных, эмпирически чувственно данных человеку явлений» [91, с. 131]. Но в таком виде оно не может быть логически четко противопоставлено материальному как объективной реальности. Акцент же на том, что идеальное «выявляется и фиксируется только в исторически сложившихся формах духовной культуры, в социально значимых формах своего выражения» [91, с. 131], нисколько не проясняет сути дела.
Заметим, что различие между категориями идеального и всеобщего должно проводиться и в том принципиальном отношении, что категория всеобщего характеризует не только продукты мышления, но и саму объективную реальность, а это обязывает дифференцировать материальное и идеальное и в данном отношении. Такое различение четко проводится А. П. Шептулиным, который подчеркивает, что «категории диалектики представляют собой идеальные образы, отражающие и выражающие в чистом виде всеобщие свойства и отношения, всеобщие формы бытия, существующие в объективной действительности в органической связи с единичным и особенным» [229, с. 414]. Однако «выявляемые всеобщие свойства и связи выражаются не только в идеальных образах, но и через создаваемые людьми средства труда, формы их деятельности» [229, с. 411].