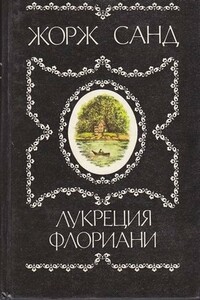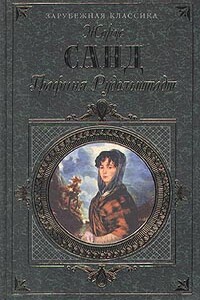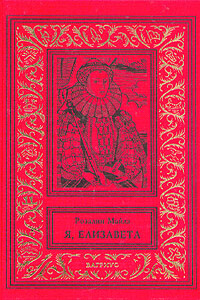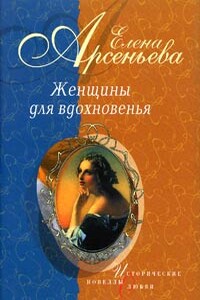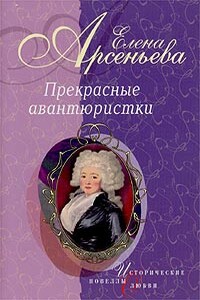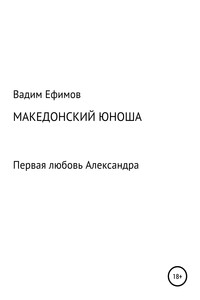Леоне Леони | страница 62
«Знаете ли вы, — спросил я его, — тех двух венецианцев, которых вы здесь представили?» — «Превосходно, — ответил он весьма самодовольно. — Одного я воспитывал, а другой из них — мой приятель». — «С чем вас и поздравляю, — сказал ему я, — это два шулера»
В реплике моей прозвучала такая уверенность, что он изменился в лице, несмотря на все свое умение притворяться. Я заподозрил, что он заинтересован в их выигрыше, и заявил ему, что намерен разоблачить обоих его земляков. Он окончательно смутился и стал усиленно умолять этого не делать. Он попытался убедить меня, что я ошибаюсь. Я попросил, чтобы он провел меня с маркизом в свою комнату Там я все объяснил в немногих очень ясных словах, и маркиз даже не стал оправдываться: он побледнел и лишился чувств. Не знаю, попросту ли разыграли эту сцену он и аббат, но они так горестно заклинали меня, маркиз выглядел столь пристыженным, столь сокрушенным, что я по доброте своей смягчился. Я потребовал только, чтобы он немедленно покинул Францию вместе с Леони. Маркиз согласился на все. Но мне хотелось самому потребовать того же от его сообщника, и я велел сказать ему, чтобы он пришел наверх. Он заставил долго ждать себя и наконец явился, но не с покорным видом и не дрожа всем телом, как тот, а трепеща от ярости и сжимая кулаки. Он рассчитывал, быть может, устрашить меня своею наглостью, я же ответил, что готов дать ему любое удовлетворение, какое он только захочет, но прежде публично обличу его. При этом я предложил маркизу от имени моего друга сатисфакцию на тех же условиях. Наглость Леони была поколеблена. Его приятели внушили ему, что, если он будет упорствовать, он погиб. Он решил покориться, но не без сильного сопротивления и ярости, и оба уехали, не появившись больше в гостиной. Маркиз на следующий день отправился в Геную, Леони — в Брюссель. Оставшись наедине с Дзанини в его комнате, я дал ему понять, что он внушает мне определенные подозрения и что я намерен изобличить его перед княгиней. Поскольку у меня не было против него непреложных доказательств, он проявил меньшую покорность, нежели маркиз, и не стал, подобно ему, умолять о пощаде, однако я заметил, что он напуган не менее его. Дзанини пустил в ход всю гибкость своего ума, чтобы заручиться моей благосклонностью и молчанием. Все же я заставил аббата признаться, что ему в какой-то степени известны гнусные проделки его воспитанника, и принудил его к правдивому рассказу о нем. И тут осторожность изменила Дзанини: ему бы следовало упорно утверждать, что он ничего не знает; но суровость, с которой я угрожал разоблачить представленных им гостей, привела к тому, что он потерял самообладание.