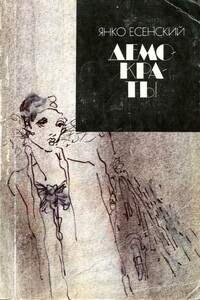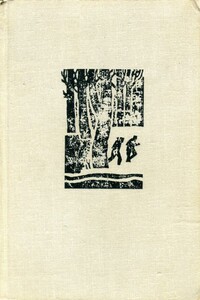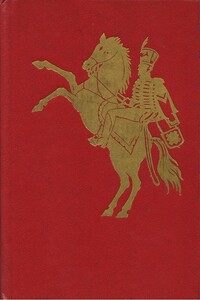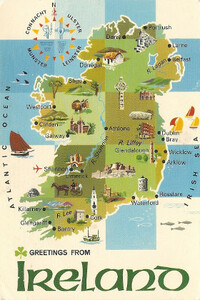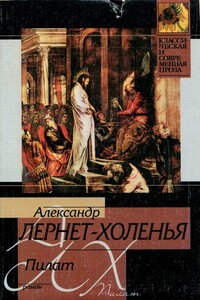Я, Данила | страница 12
«Техническая база» была горе горькое. Наши испытанные фронтовики воровали гвозди, стекло, черепицу, дверные и оконные петли, иные по три раза крали одни и те же стройматериалы и перепродавали. Крестьяне взимали репарации со своей любимой отчизны. Хилое, рахитичное сознание не могло пробиться сквозь бетонированные траверсы собственничества.
Я уже тогда боялся, что ежели в селе появится бог, не привезенный крестьянами на своих телегах, они сдерут с него шкуру и сожрут вместе с потрохами, да еще и кости обглодают. А его красный балахон повесят на триумфальной арке.
Социализму на селе предстоит перепахать много чего поважнее межей и оград. Какой тут, к черту, социализм, пока борозда не протянется по крайней мере километров на пять. И пока крестьянские порты не заменит синий комбинезон. А брошенную мотыгу — машина, приводимая в действие нефтью. Только, боюсь, запчастей не напасешься, ведь наш дорогой земледелец непременно начнет по ночам выворачивать болты и прятать их по чердакам и под стогами сена: авось пригодится! А утром, почесывая за ухом подле развинченной машины и растерянного следователя, проворчит: «И кто ж это делает, чтоб ему пусто было!»
Куда проще обозреть утекшие воды истории, чем стараться заглянуть в будущее! Муки прошлого уймут протяжные песни и возвеличат хрестоматии. А будущее попахивает железным расчетом, для которого понадобится чуточку больше извилин, чем нам досталось от частного землевладения. И нечего пытаться их прикупить, привозные извилины вряд ли подойдут к нашим черепам, и головы наши все равно останутся пустыми.
Двадцать фронтовиков гомозятся вокруг нового дома Стояна Гргеча. Спешат до темноты вставить оконные рамы, выкопать вокруг дома канавы, настелить полы. Стоян сидит на корточках в саду рядом со мной, словно хозяин, приглядывающий за поденщиками. Попыхивая глиняной трубкой, он изредка роняет слова:
— А ежели я в чем не потрафлю государству, выгонят из дому меня?
— Не валяй дурака!
— Видишь ли, меня ведь уже раз выгоняли из собственного дома, потому и спрашиваю.
Сперва он мне показался забитым трусишкой, который обмирает со страху, если его угостят сигаретой. Не привыкший к подаркам, он попросту усмотрел бы в этом какой-нибудь подвох. Но в гнезде, свитом из бороды и усов, появилась усмешка. Мудрость молчаливой земли и непробиваемого, воловьего спокойствия.
— Выдюжили войну! — сказал он.
— Кто выдюжил, а кто и нет!
— Я про себя говорю, Дане!