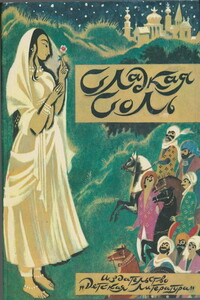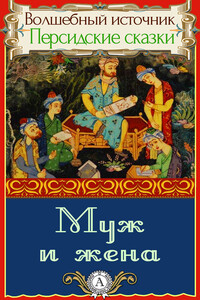Мифы, предания, сказки хантов и манси | страница 27
В. М. Кулемзин считает шаманами (хант. йолта-ку, манс. найт-хум) особых лиц, выделяющихся из среды соплеменников следующими чертами: избранничество духами и приобретение от них шаманского дара, способность входить в общение с духами и быть посредниками между ними и людьми, приведение себя в экстатическое состояние для вступления в связь с духами, наличие особого ритуального костюма, относительное разнообразие функций [68, с. 123]. Автор убедительно показывает, что в отличие от многих других народов Сибири у хантов и манси шаманство имело слаборазвитые формы. У них редко встречалось наследование шаманского дара и отсутствовал единый способ его приобретения, функции шаманов были довольно ограниченными и не выработался специфически шаманский способ лечения, не сложился единый тип шаманской одежды и бубна, шаманство не стало еще профессией [68, с. 118-134].
Очевидно, слабым развитием шаманства объясняется малое количество записанных и опубликованных рассказов о шаманах. Редко упоминаются они и в наших текстах. Возможен, впрочем, и такой подход, при котором в фольклоре обнаружится немало следов шаманства. Например, изготовление Эква-пырисем стрелы из голени, потеря им частей тела на пути к водяному царю интерпретируются как символы шаманской инициации [123, с. 21].
У хантов и манси зафиксированы и другие категории особых лиц, из них для нашей темы особенно интересны фигуры сказочника и певца. К сказочнику (хант. маньтъе-ку) иногда обращались за помощью больные. Он рассказывал сказки, в которых упоминались возможные причины заболевания, и в эти моменты больной чувствовал облегчение, передававшееся сказочнику. Он давал совет больному, что нужно сделать для излечения или предупреждения болезни. Исполнителю мифологических и героических песен (хант. арэхта-ку) приписывалась способность предсказывать судьбу, излечивать больного с помощью духов, вызванных игрой на 3-5-струнном щипковом музыкальном инструменте нарс-юх, панан-юх (хант.), санкыльтап (манс.), либо посредством одних лишь звуков, извлекаемых из инструмента[2]. Считалось, что игре на музыкальных инструментах может научиться далеко не каждый, а лишь тот, кто вступил в связь с духами (см. № 57).
Существовали также "мухоморщики" (хант. панкал-ку), вступавшие в связь с духами после съедения нескольких мухоморов и исполняющие особые "мухоморные" песни. Мухоморы употребляли и шаманы. Заметной фигурой был также наследственный или назначенный на определенный срок хранитель идолов на священном месте (хант. тонх-урт "господин, служитель духа"). Упоминаются и специальные собиратели пожертвований для значительных духов. Выделялись также люди, обращавшиеся к богам и духам во время коллективных жертвоприношений (хант. мулты-ку "молящийся человек"). Широко известны были провидцы, ворожеи, лекари и другие категории (хант. чепэнын-хой "ворожей, лекарь", тертен-хой, чирта-ку "предсказатель"; манс. кэйлынг "ворожей", качипкар "знахарь", шуркэн-хум "колдун" и т. д.). Возможно, это были предшественники шамана, вобравшего в себя их функции, атрибутику и приемы [68, с. 125-126].