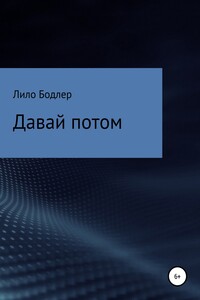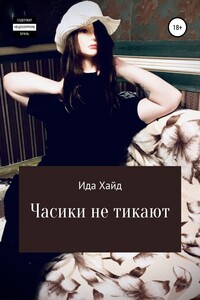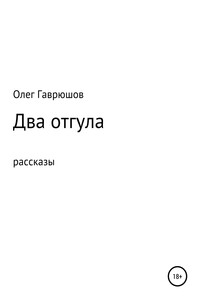Конец черного лета | страница 50
Для самого же Дальского эта страсть, принесшая ему немало счастливых минут и даже, чего греха таить, лет, бывала порой обременительна, он стыдился своего пристрастия, своей слабости к живописи. Другое дело — архитектура, тут он был спокоен и уверен в себе, с глубокой убежденностью в своей правоте мог спорить с коллегами о преимуществах готики Амьена и Реймса над готикой Милана и Кельна, с восхищением, но в то же время и с профессиональной придирчивостью взирать на великолепие Углича или суровую мощь Краковского Вавеля.
Все это поддавалось в его сознании анализу, трезвой оценке, он мог, и это высоко ценили в нем специалисты, по-иному расставить акценты при рассмотрении какого-либо, признанного давно уже классическим, произведения зодчества или аргументированно, с оригинальных, но достаточно прочных позиций подвергнуть анализу ценность той или иной постройки, или же, напротив, указать на скрытые и явные достоинства ныне забытого архитектурного ансамбля. Коллеги Дальского поныне помнят его великолепную статью в отраслевом журнале о некоторых аспектах византийского зодчества, в которой он, говоря о Софийском соборе в Стамбуле, не побоялся поспорить с аргументами самого Шуази, признанного авторитета в мире архитектуры.
Но вот живопись… Дальский хорошо сознавал, и от этого было не легче, парадоксальность своего внутреннего состояния. С одной стороны, он был признанным авторитетом даже среди видавших виды и все познавших, по их мнению, искусствоведов, причем авторитетом в такой обширной области, как западно-европейская живопись XVI–XVIII столетий, также знатоком древнерусского искусства и зодчества, правда, более ограниченного периода.
С другой стороны — это доставляло ему немало огорчений — доктор искусствоведения и кандидат архитектуры Дальский был, как юноша, влюблен в живопись, предан ей самозабвенно, до неприличия и фанатизма, как он не раз корил себя. Но здесь уже ничего нельзя было поделать. Когда он смотрел на свои любимые полотна, а их было много, очень много, у него порой начинали дрожать колени, взор застилался туманом и он как будто растворялся в нем, сам становился деталью изображения или участником живописной сцены. И даже давно уже хрестоматийная не только для начальных художественных школ, но и для обычного рядового посетителя Третьяковской галереи «Лунная ночь на Днепре» буквально зачаровывала его, он уже ничего не видел вокруг, а просто сидел на холмистом берегу Славутича возле забытой богом и людьми церквушки и впитывал в себя этот по-гоголевски волшебный, фосфорически зеленоватый свет луны, еще не спрятанной в торбу чертом.