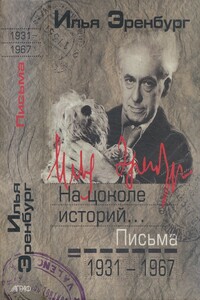Дай оглянуться… Письма 1908 — 1930 | страница 9
Сложившиеся заочно отношения неизменно проверялись при личном общении. В этом смысле поразительно, скажем, как изменился тон писем к Лидину после совместного путешествия по Бретани в 1927-м (стал откровенно веселым и внутренне открытым) и, наоборот, — после встречи в Париже со Слонимским, когда явственно выявилась несовместимость вкусов, письма приобрели сугубо деловой характер. Именно из писем устанавливается абсолютная доверительность отношений с Е.Г.Полонской, некоторая ироничность в отношениях с М.М.Шкапской (по контрасту с язвительно ироничным письмом к Я.Б.Лившицу), почтительность отношений с Брюсовым и Замятиным; из писем видно, как высокое положение Н.И.Бухарина, несмотря на юношескую дружбу, заставляет, обращаясь к нему, тщательно продумывать тексты писем.
Заботы, связанные с изданием журнала «Вещь», устройство книг московских и питерских авторов в Берлине (из письма Е.А.Ляцкому узнаем, что именно Эренбург вывез из Москвы «Лебединый стан» Цветаевой и две книги Пастернака, чтобы опубликовать их за рубежом), прямое касательство к судьбе романа Замятина «Мы» — следы всего этого уцелели благодаря письмам Эренбурга.
Кому-то может показаться, что в книге слишком много писем деловых, заполненных едва ли не бытовыми сюжетами, проблемами книгоиздания и публикаций в периодике, обсуждением мучительных финансовых невзгод. Но без этого не бывает жизни писателя, так что кажущееся одним недостатком другие, внимательные к подробностям писательской жизни, справедливо оценят как достоинство.
Письма Эренбурга позволяют судить о том, какой трудной, подчас несносной была жизнь подлинных литераторов, печатавшихся в Советской России, как зверела цензура, не допуская в печать описания реальной жизни, как задушили налогами частные издательства (исчезнувшие вместе с нэпом), как ловко сталинское государство все прибирало к рукам. Эти напоминания о происходившем 70–75 лет назад не потеряли актуальности и в нынешнюю эпоху крепнущего аппарата власти и засилия массовой культуры…
Говоря об Эренбурге, еще в двадцатые годы прилепили к нему ярлычки «циник» и «нигилист». Эренбург очень хлестко отвечал своим обвинителям. О «нигилизме» со временем упоминать перестали, а вот на предмет эренбурговского «цинизма» любят порассуждать и нынешние «интеллектуалы». Нельзя сказать, чтобы Эренбург никаких оснований для подобных обвинений не давал, но в пору до 1930 года сама его жизнь на Западе и редкие наезды в Советскую Россию за свежими впечатлениями вызывали, независимо от содержания его тогдашних книг, впечатление ловкой устроенности. В 1930-е годы именно содержание его прозы на фоне парижской жизни автора воспринималось как вполне циничное (и в эмигрантской среди, и в ортодоксально советской). Но, говоря об эпохе до окончательной победы сталинской диктатуры, заметим, что «подозрительные на цинизм» высказывания или поступки Эренбурга всегда допускают точное объяснение иного рода, к вульгарному цинизму в духе Катаева, Никулина или Н.Чуковского не имеющее отношения. Так, утверждения в письмах Н.И.Бухарину, Н.Л.Мещерякову или П.С.Когану («я работаю для Советской России») и, с другой стороны, в письмах писателям (например, Лидину, где, говоря о режиме, он запросто употребляет выражение «красноцековщина», а в письме Полонской умоляет её не отдавать еретичества) — кажутся принципиально несовместимыми. Однако Эренбург искренен в обоих случаях (просто «Советская Россия» понимается, как нечто возвышенное, а реальная советская власть — как нечто, ну скажем, земное и малопривлекательное, и эти два представления для Эренбурга не совпадают).