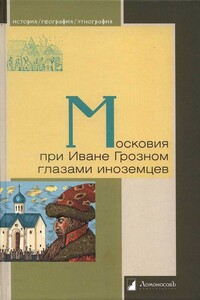Записки о Московии | страница 26
Счастливо миновав польские заставы на реке Эмбах и избежав неминуемой в случае поимки виселицы, Генрих Штаден пробрался к Дерпту. Там после отъехавшего 30 апреля 1564 г. к Сигизмунду II Августу кн. Андрея Михаиловича Курбского воеводой сидел боярин Михаил Яковлевич Морозов (1564 г.).
Через шесть дней Штаден был уже в Москве, в посольском приказе перед дьяком Андреем Васильевичем «у распросу». Он был взят толмачем в приказ; тогда же был пожалован поместным окладом в 150 четвертей и испомещен в Старицком уезде в селе Тесмино с деревнями, принадлежавшими до того одному из людей кн. Владимира Андреевича Старицкого (?).
Царь Иван был занят в то время мыслью о возрождении под русским протекторатом распавшегося в 1561 г. ливонского ордена. Предполагалось посадить магистром Вильгельма Фюрстенберга, взятого в плен в 1560 г. и проживавшего в Любиме, а преемником ему назначить сына последнего ливонского магистра Готгарда Кеттлера, – Вильгельма. Для переговоров Фюрстенберг был вызван в Москву (1564 г.). Но, как ленник Империи, он отклонил от себя предложение царя Ивана и был отправлен обратно в Любим, где и умер в январе следующего 1565 года.
В этих переговорах Генрих Штаден впервые выступил в своей новой роли толмача.
Получив от царя двор на Москве в «земщине» и, как иноземец, пользуясь правом курить вино, варить пиво и ставить мед, Генрих Штаден занялся обычным для иноземца занятием – корчемством. Не довольствуясь корчемными доходами, он завязывает связи с местными купцами-промышленниками и сборщиками мягкой рухляди с инородческих окраин Московского государства и занимается меховой торговлей.
На Москве Генрих Штаден быстро находит себе друзей и покровителей. Боярин и конюший Иван Петрович Челяднин, Алексей Данилович и Федор Алексеевич Басмановы, судья Димитрий Пивов, объезжий голова Григорий Грязнов и другие устраивают его служебные дела, заботливо приискивают ему поместье или потворствуют его корчемной спекуляции и прямым вопиющим вымогательствам.
Генрих Штаден попал на Москву, когда Грозный осуществлял свой грандиозный план социальной революции. Уходило в прошлое удельное княжье. Как ветви «палого зяблого дерева», летели прочь боярские головы. Рушились княженецкие, боярские и монастырские богатства. На историческую авансцену выходил вчерашний смерд – сегодняшний опричник.
Организуя оборону и ближайший тыл, царь «перебирает» один за другим московские города и уезды. Районы важные в стратегическом отношении уходят в «опричнину». В год земского собора о Ливонской войне (1566 г.) был взят в опричнину Старицкий удел кн. Владимира Андреевича; князю был отведен соседний Дмитров; Старица была обращена в царскую ставку на время Ливонской войны, а в Старицком уезде посажены новые помещики – «опричные» люди.